Эрец‑Исраэль и Эрец Зара
Я узнал о смерти Иегошуа во чреве боевой машины, бороздящей, без конца и без края, скованную вечными льдами и покрытую вечными снегами неназванную страну, такую мифологическую татарскую Гиперборею. И это после дождливой иерусалимской зимы, снег, если раз в сто лет выпадет, через три часа растает, а слово «холод» означает совсем иное. Мы будем помнить и в летейской стуже. Главный герой загипнотизирован, отравлен, унижен этой страной — метафора материализуется: вот он, хлебнув здешнего колдовского зелья (с тараканами), лежит без сознания в сортире, очко в полу, в блевотине и испражнениях.
Машина влачит на прицепе гроб с телом прекрасной татарско‑гиперборейской женщины пятидесяти лет, погибшей на иерусалимском шуке — шахид пособил, — на историческую родину в забытую Б‑гом деревню на самом краю ойкумены, а может, как знать, и за краем: предать останки женщины земле на тамошнем смиренном кладбище. Машину подбрасывает на ухабах, заносит на ледяных поворотах, и все ждут, когда же гроб, не выдержав безумной езды, соскочит с прицепа и, грянувшись о мерзлый сугроб, раскроется.
 Авраам‑Бен ИегошуаФото: Википедия / Arielinson
Авраам‑Бен ИегошуаФото: Википедия / Arielinson
Женщина занимала наискромнейшее место в этом мире: работала уборщицей ночной смены; транспортировка ее останков в землю рождения — проект крайне дорогостоящий, логистически сложный — была ей совсем не по чину и стала следствием обстоятельств и причуды старика‑миллионера, на предприятии которого она работала, он ее и в глаза не видел.
Армия Гипербореи не при деньгах, торгует чем ни попадя, с бронированного монстра позавчера сняты пушка и пулемет, а так хоть сейчас в бой, превращает сверхсекретные базы в музеи. В один из них, стратегическое атомное бомбоубежище с центром управления всемирными военными действиями, движется устрашающая, неубиваемая здешним снежным бездорожьем боевая машина — небольшой крюк величиной с пол‑Израиля по пути к месту упокоения.
В машине два шофера‑аборигена, сын убитой (порочный подросток тоже из местных), два иерусалимских журналиста, старый мошавник, муж женщины‑консула в этих непригодных для жизни местах, именуемый для простоты консулом, он исполняет в путешествии обязанности переводчика, ибо у обретающихся на горе Сионской, во всяком случае неподалеку от нее, нет общего языка с гиперборейскими гоями, и наконец главный герой этой саги, этого большого тревелинга, — представитель компании, где работала погибшая, сопроводитель гроба, своего рода Гермес, только не психопомп (проводник душ), как ему положено, а соматопомп (проводник тел, точнее, одного тела).
Про Гермеса это не Иегошуа, это я говорю, могу я необязательной репликой обозначить свое невидимое и не отмеченное в романе присутствие?
Ночь. В машине темно. Израильтяне затевают неожиданный, абсурдный, если принять во внимание ситуацию, разговор, в котором серьезность (и темы, и говорящих) соседствует с юмором (автора). Роман написан в настоящем времени, здесь и сейчас, готовый сценарий, зачастую с раскадровкой, сменой планов и монтажными стыками, бери в руки камеру и снимай.
<…> готов прочесть лекцию на философскую тему прямо в темном пространстве этой мрачной бронированной кабины, освещаемой лишь зеленоватым свечением обезумивших после долгой спячки приборов, под шум двигателя, рычащего на крутых поворотах лесной дороги. Он начинает с цитаты Платона, напоминая, что, по мнению этого великого мыслителя, любовь свидетельствует не только о человеческой ограниченности, но и о возможности эту ограниченность преодолеть. (Тут машину сильно встряхивает на ухабе.) Ибо человеческая страсть или вожделение нарастают постепенно, как бы поднимаясь по некой лестнице, — от низкого к высокому, от конкретного к абстрактному, от физического к духовному. (Тормоза жутко визжат на очередном зигзаге.) И вот такое постепенное самовосхождение или саморазвертывание любви становится высшим вознаграждением для разумного любящего существа, поскольку позволяет ему понять, что все то, чем влечет его объект страсти, имеется, в принципе, в других подобных объектах, а понимание этого освобождает человека, делая его любовь независимой от любого ее конкретного объекта и тем самым превращая ее в поиск общего в красоте всех иных объектов, что, в свою очередь (теперь двигатель ревет на крутом спуске), ведет его к сверхтелесному, то есть к красоте духовной, а от нее — к общей идее красоты как таковой.
— Красота как таковая… — умиляется консул. Видимо, в его воображении эти слова вызывает образ обладательницы взятой напрокат красной шерстяной шапки.
Вот именно. В этом весь секрет, вся тайна любви. У нее нет общей формулы. Каждый должен найти ее сам. И поэтому Эрос — он не бог и не человек — он демон. Жестокий, грязный, босой, нищий, бездомный, живущий на улице демон, обладающий силой связывать божественное с человеческим, вечное с преходящим. Вот почему Сократ…
Снова визг тормозов. Теперь машина резко тормозит на крутом подъеме.
Тормозить на крутом подъеме? Не уверен, что это разумно. Я выхожу вместе с водителем убедиться, что гроб на месте и не собирается покинуть нас прежде времени, обхожу машину, «могучее, но дряхлое чудище», вижу снежинки, пляшущие в луче фонаря, и, поднимаясь в кабину, слышу: «Вот почему Сократ…», будто время внутри для говорящих остановилось — специально для того, чтобы мы не упустили ничего существенного.
— Потому что дистанция в любви есть необходимое условие ее истинности. Сохранение дистанции, вопреки тому желанию двух половинок соединиться, которым вы все так восхищаетесь. Платон категорически утверждает, что окончательно соединиться нельзя. Подлинная страсть, подлинное желание красоты, стремление к ней должны всегда оставаться незавершенными, истинная любовь всегда должна находиться в динамическом, неравновесном состоянии, переживая колебания огромной амплитуды, которые в высших своих крайних точках могут привести человека как к высочайшим духовным подвигам, так и к самым бесстыдным, грязным поступкам.
— Как это верно! — восхищенно бормочет старый мошавник.
Что бы пробормотали аборигены, обрети они вдруг чудесную способность понимать иврит?
Красная шерстяная шапка, скорее уж шапочка, выдана старому мошавнику заботливой женой — чтоб в ледяной пустыне голова не озябла. Сей простак (третий сын в маленькой пасхальной драме) своеобразно интерпретирует греческую мудрость в своеобразной интерпретации выученика Иерусалимского университета.
Присущий греческой мысли абстрактный всеобщий дискурс обретает для сопровождающего гроб героя личную заинтересованность и экзистенциальность. Трагическая ирония. Он в разводе, бывшая жена его ненавидит, он сыт дистанцией по горло. Он тонкий, постоянно рефлексирующий человек, чувствительный к «женскому» и уязвимый. У него сложное, эротически окрашенное и все возрастающее чувство к мертвой «татарской» женщине, которую он мельком видел, когда она была жива, и не обратил на нее никакого внимания, как он умудрился не разглядеть, как это возможно, сейчас она является ему в снах, верх интимности, упразднение и в то же время утверждение дистанции.
Ну не в снах, в сне, только один описан, но ведь это не значит, что не было других. Сновидение полно странных образов, кошмара, эротики и невыразимого счастья, с которым он просыпается.
Погибшая женщина — единственная, кто назван в романе по имени; прочие обозначены функцией: Журналист, Редактор, Секретарша, Мастер ночной смены, Консул… и главный герой — Кадровик, он же Ответственный за человеческие ресурсы. Юлия Рогаева мученически погибла, в высокой степени реализовав себя, вышла из рамок функционального существования и удостоилась имени. И продолжает действовать в покинутом ею мире, объединяя самых разных людей и возвышая их.
На краю света, куда тело доставлено с величайшими трудами, мать убитой объявляет последнюю волю дочери: та хотела жить, и умереть, и быть похороненной в Эрец‑Исраэль, Стране Израиля, мечтала об этом.
О!
Гойская женщина готова была терпеть лишения, бедствовать, пребывать в самом низу социальной лестницы, жить в городе, где теракты почти обыденность. Еврей, который привез ее, не был готов, покинул Страну (сколько их, таких евреев?!), а она осталась. Негоже, чтобы ее мечта рухнула. Теперь она вернется в страну своего избрания. А вместе с ней мать, которая тоже хочет жить, умереть и быть похороненной в Иерусалиме, и сын, у которого появляется шанс прожить не ту жизнь, на которую он обречен на своей ледяной родине. Фантасмагорическая история.
Повествование ведется от третьего лица, но мы постоянно видим, осмысляем и переживаем реальность глазами главного героя — Ответственного за человеческие ресурсы. Одно мелкое исключение: когда водитель обходит машину, оставив протагониста в кабине. Других не припомню, возможно, еще есть, но именно как мелкие исключения. Тем не менее смена субъектности существует, причем в демонстративном виде: главным образом как коллективные голоса фоновых персонажей, своего рода «хоры» — выделенные шрифтом тексты, никак не озаглавленные, голоса не представленных читателю «мы».
Иерусалимцы, благословляющие зимние дожди.
Рабочие ночной смены в пекарне.
Охранники в больнице.
Дети из хасидской семьи.
Пассажиры в чужом аэропорту на краю земли.
И прочие. С разным взглядом на ситуацию. С разной картиной мира.
А еще «хор» существ бестелесных — навевателей снов усталому мужчине в караульном помещении атомной крепости, согреваемом печкой.
В том же формате прилагается автобиография Юлии Рогаевой в личном деле, написанная при приеме на работу рукой самого Ответственного за человеческие ресурсы: говорить‑то на иврите она могла, а писать — нет, не могла.
Вся эта возникающая время от времени полифония сообщает повествованию объемность и объективность.
Вот фрагмент детского «хора», когда хасидский папа, заложив закладкой Святую книгу, не снимая талита (может, лучше «талеса», — ведь это говорят хасидские дети), выбегает на улицу и узнает о гибели соседки.
<…> мы увидели, что наш папа стал совсем белый, как стенка, и весь задрожал, как будто его тоже ранило взрывом, а может, из‑за смерти этой хорошей женщины, потому что она у нас жила так долго, что стала совсем как будто родной человек. А наша старшая сестра сказала шепотом, что, может, наш папа влюбился в эту чужую женщину и поэтому он так теперь жалеет о ее смерти, и тогда мы все взмолились, чтобы Г‑сподь поскорее воздал за ее невинную кровь, а нашему папе дал побыстрее забыть эту женщину, чтобы мама не расстраивалась, потому что в последнее время она стала очень грустной, как будто почувствовала, что у отца что‑то другое на сердце…
Женщина — чужая, это понятно, но ведь для них и Ответственный за человеческие ресурсы столь же чужой: бритый и без кипы.
Авраам‑Бен Иегошуа
Cмерть и возвращение Юлии Рогаевой
М.: Книжники, Текст, 2008. 345 с.
Одна из главных звезд на литературном небе Иегошуа — Агнон. Тексты Агнона плотно насыщены литературными аллюзиями на классические еврейские тексты и хасидский фольклор, неразрывно связаны с ними, без них понимание чудовищно обеднено и сводится к сюжетной проекции. Иегошуа — из писателей того поколения, язык которых перестал эти связи поддерживать. Хорошо это или плохо? Не думаю, что вопрос релевантен. Хорошо, когда лес сменяется полем?
Герои Агнона, которые не учились в ешиве, по крайней мере учились в хедере, и им бы в голову не пришло припадать к греческим, Авода зара, источникам мудрости.
Иегошуа — левый, я бы сказал даже, если учесть, что он голосовал за «Мерец», крайне левый, что не мешает ему дружески шаржировать в романе левую риторику. Иегошуа — хилони, но с какой теплотой и пониманием пишет о религиозной семье — соседях убитой женщины. Да и роман его можно интерпретировать в терминах каббалы — как собирание искр.
Завершу тем, с чего Иегошуа начал: превращу пролог в эпилог, первый аккорд — в коду.
Такого исхода своей миссии он никак не ожидал. И сейчас, когда ему перевели поразительную просьбу этой старухи в темном монашеском одеянии, что стояла у костра, догоравшего в сероватых сумерках зимнего рассвета, он ощутил непривычное волнение. Иерусалим, этот старый, измученный, с детства знакомый и привычный город, который он покинул неделю назад, показался ему каким‑то необыкновенно значительным и важным, как, бывало, в давние годы.
«Старый, измученный <…> город» — таких слов об Иерусалиме не доводилось мне слышать. Чужая женщина на ледяном краю земли после своей смерти возвращает герою утраченное им ощущение значительности и центральности Иерусалима.
Иегошуа написал несколько романов — один лучше другого. Больше, увы, не напишет. Что касается меня, лучшая книга — та, которую читаешь сейчас. В дословном переводе с иврита она зовется «Миссия ответственного за человеческие ресурсы». Название намеренно сухое и громоздкое. Кто купит книгу с таким названием? Вот и переназвали по‑русски: «Смерть и возвращение Юлии Рогаевой» . Изменив смысловые акценты. Для России самое оно. На мой вкус, слово «смерть» — лишнее, но переводчики не сочли нужным со мной посоветоваться.

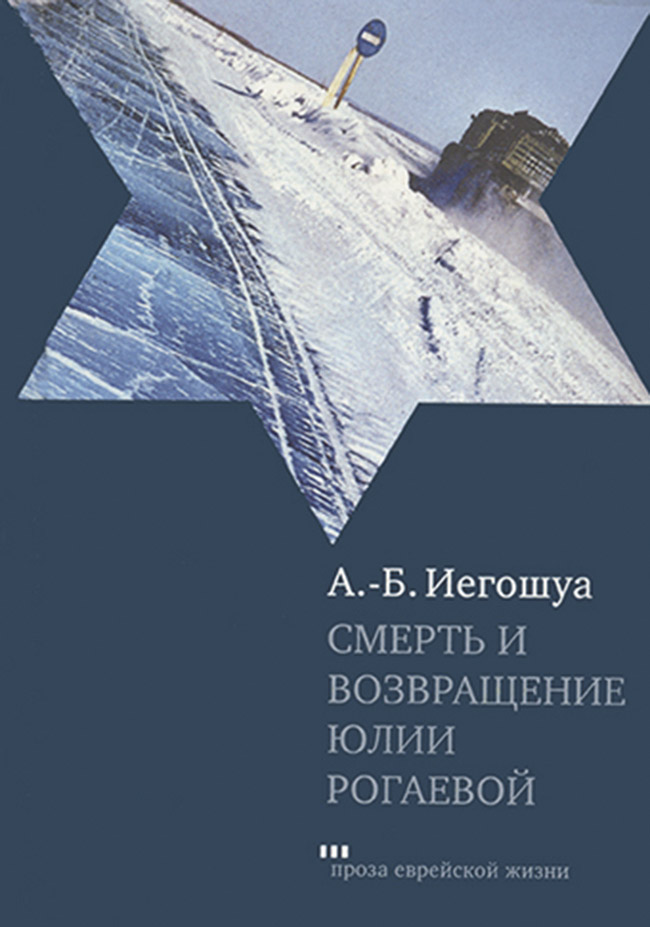






Комментарии
Комментарий удален модератором