Антикризисные меры: "для своих" и на экспорт
В мучениях созданная программа антикризисных мер уже обсуждается, но как-то лениво. Впечатление такое, что никто её толком не прочитал – ни «патриоты» из группы (условно) Глазьева-Хазина, ни либералы типа Гуриева или Илларионова. То ли другие новости сейчас интереснее, то ли в экономических кругах уже перестали воспринимать правительственные программы всерьёз.
Впрочем, дело не в этом. Оно в том, какие меры борьбы с кризисом предлагают обычно либералы и почему эти меры так сильно различаются в «цивилизованных странах» и всех прочих.
Поскольку авторитетные эксперты-экономисты по поводу намечаемых мероприятий пока ничего внятного не сказали, то придётся обратится к мнению дилетантов-блогеров, которые удивляются главному, а именно – общему направлению заявленных антикризисных мер.
А меры эти, между прочим, предполагают многомиллиардные расходы на самые разные проекты (некоторые из них, правда, пока предложено отложить).
«Но ведь обычно, когда говорят о борьбе с кризисом, то упирают на сокращение госрасходов и всяческое урезание всего и вся. А тут всё наоборот», - изумляются блогеры…
Однако изумление это напрасное. Потому что упор на сокращение расходов бывает не везде и не всегда.
Ведь кризис перепроизводства – явление при капитализме естественное. Все производят прибавочную стоимость в натуральном виде (то есть превращают деньги в товар), а потом её реализуют (превращают товар в деньги-плюс). Проблема только в том, что продают товар капиталисты тем же самым рабочим, которым они же и не доплатили (прибавочную стоимость заныкали).
Соответственно, рано или поздно наступает момент, когда вместе взятые рабочие никак не могут скупить те товары, которые они же и произвели. Тогда начинается кризис. Но рано или поздно он заканчивается. Но вот как он заканчивается, каков механизм?
На этот вопрос советские политэкономы, трудов Карла Маркса, как правило, не читавшие, внятно не отвечали. А зря. Этот процесс в «Капитале» тоже описан.
Сводится он к тому, что после начала кризиса происходит падение цен (по науке – дефляционный шок), многие капиталисты разоряются, но не все. Некоторые начинают экспериментировать с новыми технологиями, которые позволяют производить товары с настолько низкой себестоимостью, что их можно продать с прибылью даже по «смешным» кризисным ценам.
Если такие технологии находятся, то наиболее рисковые буржуа берут кредиты, на эти кредиты размещают заказы на новое оборудование; другие буржуа для выполнения этих заказов нанимают рабочих, рабочие получают зарплату, идут с ней на рынок, и на рынке появляется спрос на товары народного потребления – появляются заказы на них …
В общем, выход из кризиса начинается как раз в тяжёлой промышленности, в сфере производства средств производства. И уж если государство хочет прохождение кризиса смягчить, то, во-первых, оно должно обеспечить доступ «физического сектора экономики» к дешёвым кредитам; во-вторых, специально «впрыскивать» средства в научные исследования (ибо без них новые технологии не появятся); в-третьих, принять меры к тому, чтобы потребительский спрос (и цены тоже) всё-таки не падали очень уж сильно.
В «центральных» буржуазных государствах именно так всё и делается ещё со времен «великой депрессии» 1929-1933 годов: создаётся «искусственная занятость» на общественных работах (а с ней и какой-никакой потребительский спрос), максимально удешевляются кредиты для бизнеса, из специальных фондов финансируются венчурные проекты, сулящие открытие новых технологий. Причём, делается это отнюдь не по советам Карла Маркса, а совсем даже наоборот – по рецептам Джона Мейнарда Кейнса.
Однако – вот странное дело! – когда речь заходит о рецептах оздоровления «периферийных» экономик, то тут все советы от «мудрых западных экономистов» меняются на прямо противоположные: кредиты дорожают, социальные расходы и пособия урезают, науко- и капиталоемкие производства лишают субсидий. А там «невидимая рука рынка» сама разберётся…
В итоге получается ровно то, что в «экономисты на экспорт» сотворили в Греции и Испании: производство сокращается, безработица растет, кредиты не возвращают, новые технологии не внедряют. Зато рынки сбыта накрепко привязываются к «правильным странам».
И что же делать? Известно что – поступать прямо противоположно тому, что советуют либералы.
Кстати, опыт такого рода есть. Во время кризиса 1998 года либеральные советники предлагали Ельцину уповать на «меры жёсткой экономии» и ни в коем разе не нарушать долговых обязательств. Однако тот, видимо, протрезвел на время, пришёл в ужас, и после дефолта призвал в правительство Маслюкова, а в Центробанк – Геращенко… И в России удивительным образом начался экономический подъем «тучных нулевых».
И не только в России такое было. Примерно то же самое произошло в Аргентине, в Бразилии, в Турции… Разница лишь в том, что в Бразилии и Турции были свои «экономисты-националисты», которые не только объясняли в СМИ, почему «бледнолицых братьев» слушать не надо, но и имели доступ к руководству своих стран, где их внимательно слушали и советы воспринимали.
А у нас с этим беда. «Птенцы гнезда гайдарова» из ВШЭ так плотно расселись на всех экспертных жёрдочках, что альтернативному мнению во властные кабинеты просто не просочится, даже если исходит это мнение из Академии Наук.
В результате экономическая политика налицо: проценты по иностранным кредитам ниже, чем по отечественным; доходы от нефти не вкладываются в отечественную экономику, а замерзают в «ценных бумагах» ФРС США; инвестиции в хай-тек не растут…
Однако нет худа без добра. После объявления санкций и падения цен на нефть «в верхах» все-таки всполошились и решили начать возвращение «загашников» в Россию, пока их там, на Западе не конфисковали нафиг. Отсюда и главное направление антикризисной программы – потратить деньги в России хоть на что-нибудь. А поскольку денег всё-таки много, то «что-нибудь», глядишь, и обернётся экономическим эффектом.
Конечно, было бы лучше, если бы миллиарды, вбуханные в разные саммиты и мундиали были потрачены на строительство импортозамещающих предприятий, но лучше поздно, чем никогда.



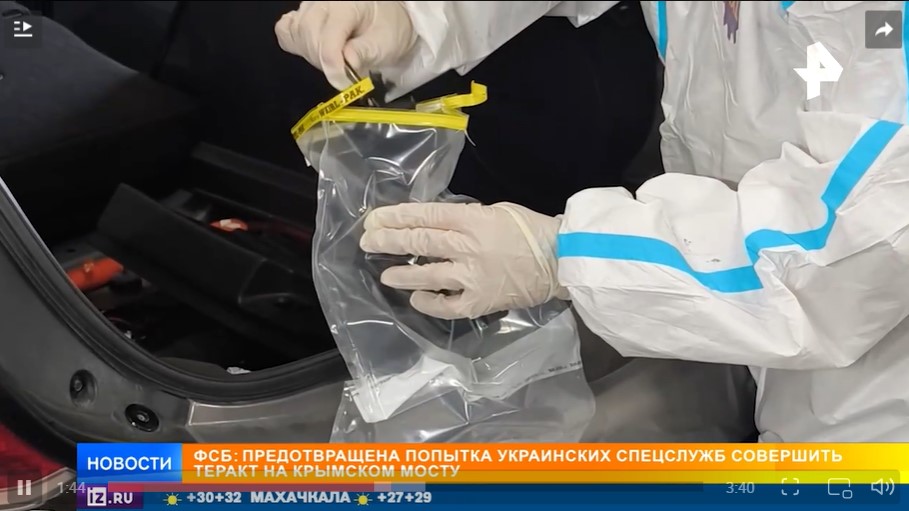



Комментарии
ЛДПР решила предложить заключенным четкий компромисс – свобода в обмен на нажитое имущество.
Возвращаются 90-е. Тогда точно также было. Все, кого амнистировали в 90-х, прошли собеседование-торговлю с кумом на зоне. Потом их выпустили и на всех был компромат. Они были все на крючке у КГБ.
Создают необходимую массу для подавления обывателя.
20 долларов за баррель собьет с вас и вашего кремлевского полудурка спесь, тогда банально будете думать, как выжить, а не про хохлостан и пендосов.
А все ботоксный мужичок, не рассчитал свои силы, играясь в геополитку. Ну и доигрался, сделав заложницей своего самодурства всю страну.
Дождись понедельника.
Покедова, Бггг !!!
И поэтому вывезли капиталов из РФ в прошедшем году,
вдвое больше, чем в предыдущем.
Сначала из бескризисного социализма залезли добровольно в кризисный капитализм, а теперь рассуждаем про рецепты выхода из этого дерьма.
Простите, но мне это чем-то напоминает штопанье гандона...