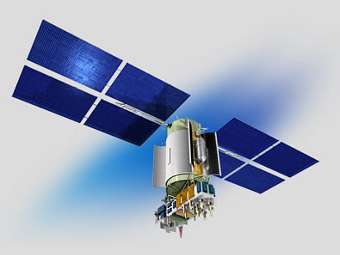
Космические полёты пока на пределе возможностей современной техники. Понятно, без сбоев — порою катастрофических — не обойтись. Но два несчастья за одну неделю (и шесть с начала года) — явный перебор. А когда аварии случаются с надёжнейшими ракетами, находящимися в строю полвека и постоянно совершенствуемыми — это уже катастрофа всей отрасли.
Ракета-носитель «Протон» Челомея с двигателями Глушко и Косберга в рамках советской лунной программы отпочковалась от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на высококипящем долгохранимом топливе и впервые взлетела в 1965‑м. В конечном счёте в основу программы легла другая система — Н‑1 Королёва с двигателями Кузнецова (увы, из-за экономии на стендах для наземных испытаний её так и не удалось отладить до американского лунного десанта).

«Протон» же с тех самых пор работает на околоземных орбитах. Он выводит в космос тяжёлые системы, включая советские орбитальные станции. А с разгонным блоком «Бриз» стал основным средством доставки спутников связи на геостационарную орбиту.
И вдруг давно обкатанный «Бриз» вывел новейший российский спутник, где за двадцать миллиардов рублей (!) собраны десятки каналов связи во всех диапазонах, включая цифровое телевидение, далеко в сторону от орбиты.
Ещё страшнее авария ракеты «Союз», направленной к международной космической станции. Правда, она несла беспилотный грузовой «Прогресс». Но на таких же ракетах летают и корабли «Союз» с людьми. «Союз» — плод многократной модернизации МБР Р‑7 Королёва с двигателями Глушко, впервые взлетевшей в 1957‑м. С тех пор и по сей день все наши пилотируемые корабли — «Восток», «Восход», «Союз» — выносит в космос именно эта система — по сути, та же Р‑7 с добавленной третьей ступенью.
Надёжности обеих ракет завидуют едва ли не все остальные космические конструкторы. Только 3 % стартов «Протона» оказались неуспешны. Только один старт «Союза» потребовал срабатывания системы аварийного спасения.
А.Леонов Стартует "Союз-19". 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с кораблем "Союз-19". Рисунок из книги А.Леонова и А.Соколова "Человек и Вселенная" издательство "Изобразительное искусство", 1984г.
Кроме того, ракеты постоянно совершенствуется. Каждый старт приносит инженерам громадный объём телеметрической информации. Её анализ выявляет малейшие слабости в конструкции, подталкивает к новым решениям. Да и материаловедение, и технологии производства не стоят на месте.
Кстати, это — одно из ключевых преимуществ нашей космической программы перед американской концепцией многоразовой системы. Её спроектировали единожды в конце 1970‑х и со времён первого полёта первого из пяти космических челноков — 1981.04.12, в двадцатую годовщину полёта Гагарина — меняли только износившиеся детали. Понятно, челноки безнадёжно устарели, а стенда для обкатки новых решений не было. Поэтому сейчас, когда два челнока погибли, а три оставшихся развезены по музеям, американцы вынуждены создавать новый пилотируемый космический комплекс практически с нуля.
Отчего же сейчас на нашу технику, постоянно впитывающую в себя новейшие достижения науки и инженерного искусства, обрушилась затяжная полоса неудач? Причём с каждым годом доля провалов растёт!
Мне довелось даже прочесть конспирологическую версию: мол, таким способом Россию (и Китай, где недавно тоже случилась авария ракеты) удержали от публичного выступления в защиту Ливии, избиваемой НАТО с воздуха и исламистами, нанятыми НАТО, на земле. Но «не следует объяснять злым умыслом то, что вполне объясняется обычной глупостью». Наши провалы в космосе начались ещё задолго до НАТОвской агрессии.
На мой взгляд, причины упадка нашей космической промышленности — чисто экономические. И будут расти по мере прогресса рыночной экономики.
Чтобы совершенствовать технику, надо самому в совершенстве разбираться в ней. Старые инженеры и учёные, воспитанные ещё в советское время, стареют и уходят. На их место приходят плоды нынешней системы образования, заточенной под извлечение максимальной прибыли. Тут уж хочешь не хочешь, а приходится экономить и на качестве преподавателей, и на учебном оборудовании, и на производственной практике…
С рабочими, воплощающими чертежи в металле и композитах, и того хуже. Система профессионально-технического образования разрушена практически полностью: эффективные менеджеры — и на предприятиях, и во всей державе — сочли её непрофильным активом.
Вдобавок Роскосмос включил в тариф на свои услуги страховку грузов. Раньше каждый сбой оказывался предметом жёсткого разбирательства — иной раз с оргвыводами вплоть до изгнания с работы и из правящей партии. Теперь же клиент может услышать: вот Вам деньги за Ваш аппарат — в чём проблема?
Между тем проблема остаётся. Как сказал великий физик Франклин, чей портрет размещён на стодолларовой купюре, время — деньги. Не вышел на орбиту спутник связи — перевод значительной части России на цифровое телевещание откладывается на несколько лет, до завершения строительства и отладки нового аппарата. Рухнул на Алтай космический грузовик — всю программу работы на МКС приходится перетасовать из-за потери запланированного снабжения станции едой, водой и приборами. Кто возместит это?
Но дело, конечно, не в деньгах. А в том, что при таком отношении к делу того и гляди случатся и человеческие жертвы.
Впрочем, и деньги важны. Страховка повышает общую цену работы в космосе. А частые аварии того и гляди оттолкнут от нас клиентуру: лучше уж дождаться разработки новой ракеты в Европейском Союзе, Китае, Америке. И тогда Роскосмос останется без главного нынче источника дохода.
С другой стороны, даже доходов Роскосмоса вряд ли хватит на возрождение всей отечественной системы среднего и высшего образования. Хотя бы потому, что система эта должна работать в интересах не одной фирмы, а всей страны. Вот только формулировать эти интересы нынче — в рамках концепции втискивания страны в «свободный» рынок, наглядно доказывающий свою несостоятельность очередной Великой Депрессии — некому.
Социалистическая экономика и советская политика далеко не безгрешны. Я посвятил их сбоям, провалам и системным недостаткам множество публикаций. Но рынок — как и учили нас классики марксизма — ещё многократно хуже. Так что в последние годы я то и дело повторяю один из бесчисленных афоризмов Станислава Ежи Беноновича де Туш-Лец: «Если хорошее старое вытесняет плохое новое — это прогресс?»
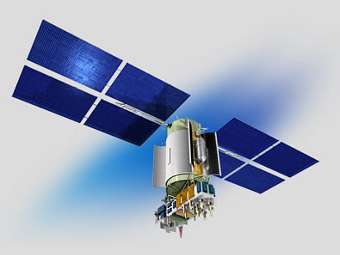








Комментарии
Обе проблемы будут решаться о ч е н ь долго, Одними призывами едических россов и псевдогрозными разносами с самых верхов этого не сделать, - как и безудержной критикой всего прошедшего времени.
Убили "Буран", умертвили ракетный щит Родины, - очередь за космической отраслью, от интеллектуальной мощи до материальной части.
"Кирдык" пробрался, - но совсем не незаметно. Одна катастрофа - трагедия, две - проблема, три и более - система.
Вон в новостях рассказали, что это за всю историю "Прогресса" вторая авария. Первая была еще при испытании в 80 каком то году.
Оказывается можно и не испорчеваемое -- испортить? Ну если постараться.
Провалы также в авиации: в гражданской "Суперджет" который морально устарел еще до пуска в серию. В военной Т-50 самолет пятого поколения, который не летает.
Провалы в судостроении -в России его просто НЕТ.
Провалы в баллистических и тактических ракетах наступательного класса.
и т.п.
Как хорошо, что у нас (у них?) есть нефть и нет подобных проблем.
Ракеты падают потому, что без них лучше - меньше людей, не зависящих от квот на трубу.
18.14. Сообщается что основная масса людей движется к месту сбора от метро, будет минут через 20.
18.30. У метро Новокузнецкой собрались около 500 человек русских людей, при помощи представителей русских национальных организаций они стали строиться в колонну. Наряды милиции с применением силы рассели скопление собравшихся людей, прошли задержания активистов. Известно что задержаны активисты Русского Гражданского Союза и РОД (информация уточняется). Рассеянные милицией люди продолжают пробираться к месту сбора.
18.35. Корреспонденты НСН сообщают о жестки...
18.35. Корреспонденты НСН сообщают о жестких задержаниях у метро. Омоновцы били ногами в живот людей, скандировавших "Русские вперед" и "Один за всех и все за одного". Вели съемку представители Би-Би-Си. На место сбора сейчас прибывают большие группы людей из рассеянных у метро.
18.40. Начались задержания, милиция разгоняет собравшихся у суда русских, очень жестко, валят на асфальт. Представители русских национальных организаций пытаются дать интервью прессе. Народ, несмотря на объявления милиции и выборочные задержания, не желает расходиться.
18.48. Полиция задерживает спокойно стоящих людей, с применением силы. Задерживаемые возмущаются, требуют объяснить основания задержания, но Закон о Полиции нарушается режимом без стеснения. Собравшиеся скандируют в сторону полицейских - "Позор!"
18.50. Задержаны представители РОД, собравшиеся разделились, чтобы не мешать проезду транспорта, но задержания продолжаются.
18.56. Жестко задержана Алла Горбунова, еще более десятка активистов национальных организаций, полиция пыталась отнять камеру у телекорреспондента РЕН-ТВ. Полици...
19.00. Народ, вытесненный на набережную скандировал "Русские Вперед!"
19.05. Группа русской молодежи на набережной скандирует "Мусора - позор России", пза ними бегут ОМОН-овцы с дубинками, готовится силовое задержание.
19.07. ОМОН вытесняет людей с набережной.
19.09. Русские скандируют - "Русские - вперед!" и "Долой Кавказ!"
19.12. Люди движутся по Озерковской набережной в сторону Садового Кольца. По всей набережной стоит полиция и ОМОН. Поступила информация о том, что сегодня полиции дан приказ задерживать всех. Полиция также разгоняет с набережной людей во дворы и жестко задерживает, не гнушаясь побоями.
19.23. Полиция и ОМОН не окончательно рассеяли русских, протестовавших против этнокриминального беспредела и соглашательской позиции властей. Колонна, скандируя "Русские вперед!" и "Слава России" повернула по обеим сторонам набережной обратно и движется к суду. Все проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки русских.
19.40. Завершился Народный сход &quo...
Комментарий удален модератором
Вессерманы продолжают комиссарить,все болтают что социализм не за горами, мол олимпиаду проведём и такая жизьнь начнётся... а статья про космос это обычное комиссаровское умничанье от безделья, и выводы весьма ложные про причины падения этих летающих цистерн с топливом. Глупость правит мiром в нашей стране
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Искать в имени нацеиональность, вероисповидание и прочее-явная глупость.
Березовский- очень даже славянская фамилия, Кириенко- так же, а поди ты -жиды!
Официально известно о двух случаях: один раз та же Р-7 загорелась на стартовом столе и система увела спускаемый аппарат в сторону,после чего он благополучо спустился на Землю со спасённым экипажем.Об этом в печати в то время не сообщалось.
А вот о другом случае срабатывания системы спасения космонавтов,правда без ссылки на неё,сообщение в печати было то ли в конце 1973,то ли в начале 1974 г.Тоже не сработали двигатели 3-й ступени.
Экипаж,в составе которого был О.Г.Макаров(с которым мы одно время жили в Москве в одном доме в районе метро "Проспект Мира" и который мне рассказывал о том полёте),приземлился в том же примерно районе,где сейчас упал "Прогресс".Пиропатроны системы сработали неодновременно и их увело в сторону от траектории.
Участвовавший в спасении экипажа вертолётчик,тоже,так случилось,что вой знакомый Володя,рассказывал,что они облетели всю расчётную траекторию,но спускаемого аппарата не нашли,а первым спускаемый аппарат заметил экипаж гражданского АН-2 и передал им координаты.Так что 3-я ступень не срабатывала и в Советское время
Спрашиваешь у студента,как это можно не знать элементарных вещей.А он отвечает,что зачем ему что-то учить,если оченка зависит не от знаеий,а от того,сколько ты заплатишь преподавателю.И так по всем общетехническим дисциплинам.По специальности,правда,учат по-честному.Но специальность-то нынешним студентам не нужна.Ни один выпускник МАДИ не идёт работать к нам в автобусный парк-заработок маленький.Инженер,даже ведущий,получает на руки порядка 16-18 тыс,что для Москвы капля.Вот и идут выпускники ведущего некогда ВУЗа слесарями в автосервис или менеджарами по продаже авто.Действительно,зачем им знания!?
Мы виним власть,что вполне справедливо,но и в сознании большенства людей на первое место вышли только деньги.А творческий инженерный,или просто инженерный,труд плохо оплачивается.Выпускник юрфака получает не менее 30 тыс.,а выпускник-инженер по специальности может заработать порядка 12-14 тыс.Какой уж прогресс?!
Комментарий удален модератором
Гейтс - возможно и нет. Только он к ОС почти не имеет отношения. Больше к организации производства. На самом деле - банальный торгаш, только очень крупный.
А текст действительно - ни очем. Не в тему...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что может народ, проповедующий иудаизм, где праздних ПЕСАХ, массовое убийство людей, от мала до велика, по национальному признаку?
Только "качественно" быть палачём, под Флагом холокоста?
Увы но это факт!
"Социалистическая экономика и советская политика далеко не безгрешны. Я посвятил их сбоям, провалам и системным недостаткам множество публикаций. Но рынок — как и учили нас классики марксизма — ещё многократно хуже"
Существует две общественно-экономические системы - капиталистическая и социалистическая. Поэтому не нужно сейчас тратить время на критику отдельных недостатков социалистической системы - недостатков много в разных обществах и системах. Нужно просто признать, что социализм лучше капитализма, и приложить все усилия, чтобы вернуть его.
Всё остальное - вторично, в т.ч. критика и исправление недостатков нового социалистического строя в нашей стране.
Т-50 - двигателей к нему нет, РЭО нет. Да что брать Т-50 у нас десятки "Бэкфайеров" стоят, двигатели свой ресурс уже лет 15, как выработали. От силы летает 3-5 бортов в каждом полку, а сколько этих полков осталось, толком никто не знает, а если знают, то молчат в тряпочку! А если завтра война, если завтра в поход... (это подтверждают все последние события в мире. Снять с авиалиний все Ту-134, Ан-24, а что в замен БУ-шные Боинги и Аэрбасы!!!Почему не доводят до ума Ту-204, не разрабатываются новые двигатели и еще 1000 почему, скорее всего это делать уже некому и нечем!!!
P.S. к идейным "виндузятникам" не отношусь. Вполне могу реализовать сеть+ вагон рабочих станций с разной специализацией на *nix системах, только вот покупателя на такие услуги пока не встретил.:(
Вот,что уходит безвозвратно!
Уходят "школы" технарей!
И начался этот техногеноцид с разгулом перестройки!
Космическая отрасль - это 90% госзаказ и госфинансирование. А сейчас у нас, где государство и бюджетные деньги - там попилы и откаты. В результате на собственно разработку и производство денег уже не остается. Иначе будет совсем уж неприлично, по сравнению с заграничными ценами.
Я сам работал в этой области до середины 90-х, пока не начался полный развал. А многие мои бывшие коллеги пережили этот развал без радикальной смены професии - перебились временными работами и не ушли окончательно. Поэтому что называетсчя "костяк" настоящих специалистов никуда не делся.
Уже несколько лет в космонавтике платят вполне приличные деньги. По крайней мере, грамотный инженер сейчас может зарабатывать 50-80 тысяч совершенно спокойно, даже не отвлекаясь на "левые" подработки. Поэтому молодежь тоже приходит. Преемственность имеет мнесто быть. Особенно если учесть, что сейчас в полном расцвете творческих сил те, кому было лет 30, когда начался развал ВПК, и еще вполне работоспособны многие из тех, кому в то время было за 40 и больше.
То есть провал и отток кадров конечно же произошел. Но это наверное даже правильно. Многие их моих бывших коллег работали не по призванию, а от отсутствия вариантов. Они вполне состоялись в других областях. Кто любил это дело, тот остался и сейчас работает. Молодежь приходит. Так что вполне есть, кому двигать космонавтику дальше.
- Это открытая информация.
- Чистую правду. :) Сейчас эта информация открыта. Никто Вам по аварийности "Союза" врать не будет.
Госдеп не разрешает продавть в Россию МК, зато мы свои движки им продаем
Плавали! Знаем!
Поэтому этим "страшным" людям я прямо говорю, что они - тунеядцы с комплексом неполноценности.
Так, надеюсь не сболтнул лишнего, вроде не употреблял, ни с ..., ни без.
А если отрасль отдать на прокорм Чубайсу - то вообще ни одна ракета больше не взлетит. И вообще, весь космос перепишут на офшорные юрлица.
Для этой системы они как раз эффективно выполняют свою работу, для которой и призваны, так сказать.
Это просто вы по наивностии считаете, что цель в том, чтоб все летало, не падало etc etc...
А это будет тяжёлым ударом для престижа страны.
Я удивляюсь, что они вообще "летают". А не вылетели в трубу, как все остальное при Горбачеве, Ельцине, Путине.
Страной уже двадцать лет правят ДИЛЕТАНТЫ, а он статьи пишет о "системных" недостатках руления КПСС и Политбюро ЦК, которые запросто могли послать космонавтов на Солнце ночью.
Оказывается, американцы космические ДУРАКИ, что не выдавили все соки из своего народа на "Наши космические корабли БОРОЗДЯТ..."
Статья вселенского или космического КПССного и КГБшного идиотизма при маниакально Путиноевском синдроме ПЕРИМУЩЕСТВА всего советского над...
А кстати... какое отношение имеет РСФСРа модерновая к достижениям советского народа на почве выжитых соков и БОРОЗДЕНИЯ вселенной?
Может автор нам раскажет, как мы оказались "впереди планеты все" Именно не "всей", а все мы оказались.
Виноват Путин и Медведев!
Выгнать их из Кремля с позором и начать восстановление науки, образования, промышленности!
4 октября 1957 года запущен первый искусственный спутник Земли.
оставайтесь с зубом:)
не нужен Ваш зуб:0
поди гнилой уже?:)
Руслан, Вы мне симпатичны за обозначенное выше высказывание. Мы с Вами (хоть и микроскопическая составляющая) часть одного народа! Удачи Вам и Вашим близким!
Надо немцев опять победить и снова лет 15 у нас будет прорыв в науке и технике
А пока с единомышленниками организую и, естественно, участвую в митингах в Пензе в поддержку Квачкова.
А Вы будете наблюдать?
Если быть до конца честным, то надо отдать должное немцам-фашистам, это они дали толчок развитию науки и техники в 20 веке, когда вытащили свою страну из кредитного рабства англо и еврейских ростовщиков.
Комментарий удален модератором
или это цепочка диверсионных действий направленная на то, чтобы лишить РКС "глаз и ушей", в свете трех пожаров на крупнейших арт складах, "войне" за выгодные телекомуникационные орбиты, ГЛОНАС, и в целом за престиж и влияние в мире..
Я бы поставил вопрос по другому - почему до сих пор работает советское наследие?
И ответил бы - оказывается, советская космическая техника была очень качественная и с десятикратным запасом прочности. Те же грузовые корабли Союз-Прогресс с 1978г. не имели никаких происшествий. И вот вчера - катастрофа.
А когда мы теряли спутники?
Интересно, какой средний возраст учёных космических областей знаний и рабочих, производящих космическую технику.
Если молодёжь повально идёт учитья на юристов и экономистов. На экономистов в деиндустриализованной стране.
Ну на юриситов понятно - бандитов обслуживать юридически и помогать олигархам уходить от уплаты налогов.
От Путина ждать изменений сознания бесполезно. Перед тем как менять сознание миллионов он должен поменять себя, а он на это не способен.
Медведев ближе к идее самоорганизации изменения но ему не дадут а сам он не готов взять реальную власть в свои руки. Молод и слишком порядочен не смотря на затуманенные мозги.
Остается надежда только на возрождение самосознания у народных масс. Движимые к народовластию они должны совершить прорыв в области завоевания своих прав на страну. Для развития народовластия нужны сторонники и конструктивные критики. Некоторые мысли по поводу изменения процедуры выборов http://gidepark.ru/user/3330612159/article/385198
ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ! НАДО ИДТИ НА ...
Состав продуктов питания - неизвестен и все больше напоминает химический сгусток. Молоко разливаемое в московских предприятиях не киснет потому что видимо его там мало. Арендные платежи на землю для предприятий так высоки что нет другого выхода кроме одного - снижать себестоимость за счет ухудшения качества. Чиновников очень много и всем нужно платить вот ставки на московскую территорию и растут. После расширения Москвы продукты подорожают еще больше поскольку везти придется из далека.
В этой связи родителям желающим вырастить здоровых детей ничего не остается кроме как все силы отдавать зарабатыванию денег. В определенном возрасте это переходит сначала в навязчивую идею а потом в шизофрению. Результат мы видим в том числе и в виде падающих спутников созданных в то счастливое время СССР
Или Вы за революционное решение вопроса? Тогда объявите программные установки Вашей партии!
А всё остальное - СЛОВОБЛУДИЕ!
Реалити-шоу: "Белые тургеневские ночи современной России"!
В рамках законов РФ как показывает практика можно многое. Правоприменение в России очень избирательно, а наши законы настолько противоречивы и непоследовательны, что проследить какую либо системность в нашем законодательстве сложно. В связи с этим коррупция является интерфейсом между оторванным от жизни законодательством и реальной практикой хозяйственной деятельности.
Партии у меня нет и никогда не будет. Но о возможном порядке развития событий я думаю.
http://gidepark.ru/user/3330612159/article/385198
Я представляю себе возрождение народовластия очень приблизительно:
1. Этап идейной консолидации - вовлечение в процесс обдумывания процесса выборов и изменения конституции порядка 10 млн активных сторонников по всей России;
2. Разработка концепта новой системы голосования и предложения об изменении конституции;
3. Обращение к Президенту России с требованием проведения изменений;
4. Если от Президента последует бездеятельное молчание или отказ, обращение к депутатам ГД и партиям на предмет проведения; общероссийского референдума по программе изменений основного закона и процедуре выборов;
5. Если от партий получен отказ то обращение к народу России;
6. Проведение согласованного с большинством поддерживающих, проекта изменений;
7. Проведение выборов по новой процедуре и передача власти всенародно избранной ГД, губернаторам и Президенту.
Рад Вас видеть
Мы не живем, а "играем" по правилам, которые не знаем и которые постоянно меняются. А когда случается нарушение наших прав, вдруг открываем для себя правду жизни - что все законы написаны против народа в угоду интересов правящего класса и коррупционной клановой системы.
Особенности олигархической экономики - непрерывная ложь. Но для того что бы ее менять необходимо менять власть, а для этого надо, прежде всего, менять процедуру выборов. Некоторые мысли по этому поводу http://gidepark.ru/user/3330612159/article/385198
И не забывайте,что основная масса обывателей - это "болото", которому все равно
Власть пытается точечными срочно обморочно создаваемыми комиссиями решить все проблемы в России. Не выйдет! К вопросам повышения эффективности экономики надо подходить системно.
Где же ГЛОНАС на Прогрессе, которая с точностью до метра должна указать место падения? Останки корабля ищут как иголку в стоге сена днями напролет. Или ГЛОНАС пока только для мусорных машин подходит?
http://bus46.ru/
http://www.rg.ru/printable/2011/07/18/glonass-musor-anons.html
миллиард в любой валюте даже в золоте я не построю этот прогрес и не запущю его на
орбиту.Есть такое понятие как любовь она на деньги не разменивается.Для того чтобы
осуществить прорыв в космос нужны были не только средства но и любовь к этой идее,
преданность.Всё ыло и так бездарно отдано на поругание не компетентным гайдарам, чубайсам,и др горе реформаторам у которых похоже любовь лишь к баблу.
Отличаются, к сожалению. Их много раз радикально сокращали, понижали штатные категории и т.п.
Результат - налицо. Плюс всеобщая коммерциализация, снижение уровня образования и престижа военной службы....
А комплектующие многие в современной России просто не производятся, вот и закупают то, что с большим трудом удается найти. Кооперация (техническая естественно) разрушена с развалом СЭВ , а затем и СССР. Но многие заводы и в РФ уже выпали из перечня поставщиков по целому ряду причин.
Слишком много совпадений для случайностей.
Политика сконцентрированное вырожение экономики.Поправте что не так.Только политически не получится хотябы потому что ложью является развал Союза комунистами.
брежнев не был коммунистом он как и многие на верху но не все был членом и горбачёв
ещё больший член.А внизу можно было найти настоящих комунистов которые с большой
любовью(как А Быков)написали бы на постройках цивилизованной,грамотно организованной
плановй экономики.Этим строением удовлетворён.А запретив КПСС кудаб вы дели жадных до роскоши и инициативных прохоровых,чюбайсов.Этож благодаря им у нас востребованы
торги и мошенничество с ваучерами.Вот и вся политика а работать некому.Скоро останутся одни юристы и продавцы вот с этим контенгентом и стремитесь на около земную орбиту.
А этого никто понять не может, корень проблемы никто не понимает.
В непонимании проблемы и состоит причина ее неразрешимости.
Пока человек не понимает причину, суть проблемы, так и останется в полном недоумении и прострации.
Тут пишут про социализм и капитализм, не понимая что нарушены все фундаментальные принципы существования человеческого рода, без которых это существование не реализуется вообще, каким бы боком вы его не поворачивали.
Ничто уже не поможет - ни капитализм, не социализм этому обществу, в котором потеряна истина бытия.
Остается бандитизм, рабство, деградация и разрушение жизни, но это тоже результат действия одной и той же причины вырождения безнравственного развития общества. Не тем путем идем, господа. Пока вы тут рассуждаете о причинах кризиса, понятливые люди приватизируют собственность мира в свою пользу и окажетесь вы все в их ручонках, спохватитесь да уже поздно будет. Привет всем.
План не догма а коректировка плана задача плановых органов и если они сней не справляются то и вообще могут быть уволены без выходного и посбия.Работать надо.
А вот жажда наживы это заболевание и сроки для лечения зависеть должны от отягчяющих обстаятелств.
Сколково для них.
1. Организация труда в космической отрасли была значительно выше.
2. Субподрядчики при создании и запуске ракет были предельно ответственными за свою продукцию.
3.Практически финансовых ограничений не было.
4.Все комплектующие были только советского производства с военной приемкой.
5.Кадры отбирались только лучшие в стране.
Ориентация на доходы от добывающих отраслей приведут Россию в разряд отсталых стран. Через 10-15 летнашей стране не кому будет создавать ракеты и ядерныое оружие тогда нас смогут взять голыми ркуами. Нужно коренным образом сокращать бюрокртический аппарат и бездельников в правоохранительных органах, перестать кормить безделников и жуликов а на эти деньги улучшить систему образования и подготовки квалифицированных рабочих и оплату труда инженеров и квалифицированных рабрчих. К сожалению пока нынешнюю властьне прогонят поганой метлой в стране ничего не изменится.
Но есть и такие как вы говорите, которым все равно, лишь бы платили.
Из 1т. "Капитала" К.Маркса
Автор сам и ответил на все свои вопросы:
"причины упадка нашей космической промышленности — чисто экономические.
И будут расти по мере прогресса рыночной экономики.
Старые инженеры и учёные, воспитанные ещё в советское время, стареют и уходят. На их место приходят
плоды нынешней системы образования,
заточенной под извлечение максимальной прибыли.
Вдобавок Роскосмос включил в тариф на свои услуги страховку грузов.
Космическая отрасль "должна работать в интересах не одной фирмы, а всей страны".
Вот только формулировать эти интересы нынче —
в рамках концепции
втискивания страны в «свободный» рынок,
наглядно доказывающий свою несостоятельность
очередной Великой Депрессии —
некому".
+1. Я бы добавил ценить и платить.
Прокуратура сейчас выясняет кто виноват.А что тут выяснять! Виновато высшее руководство страны: Горбачёв, Ельцин, Путин, Медведев.
Именно Этих людей надо привлечь к ответственности. А найдут "стрелочников", трудами которых космонавтика ещё кое-как жива. Всё как всегда кончится "наказанием невиновных и награждением непричастных".
Договорятся между собой за наши деньги.
Жаль что ракета упала на Алтай, а на Кремль.
Да и проблема-то не просто в чьей-то конкретной вине, а в том, что уничтожена вся интеллектуальная, техническая и экономическая инфраструктура. Прежде всего уничтожено и продолжает уничтожаться образование, как среднее, так и специальное, так и высшее. Кто же виноват? Понятно кто.
Сейчас даже простому дураку понятно, что нас добивают, а потом начнут рвать на части.
Единожды продавшийся будет продаваться всегда.
Куда смотрит разведка? Туда куда и власть.
скорее всего, следуя статистике, блядюга чапман смотрит сейчас на чей-то член входящий в нее
Как экс-конструктор-компоновщик систем доводки крупных авиадвигателей НК вижу по авариям модернизированного МИГ-29 и нового Т-50, что эти изделия не доведены для демонстрационного показа на МАКСе.
Объяснение очень простое - это отсутствие нормальных и талантливых конструкторов по соответствующим системам изделий. Как подобрать и воспитать таких конструкторов, этого менеджеры не знают, у них просто никогда не было и нет никакого опыта.
Самый простой способ подбора эффективных конструкторов - через конструкторские программы на сборку и испытание сначала узлов, а потом системы изделия. Тот, чьи уникальные программы не дают сбоев, выходит на более высокий уровень задач, кто не может или не хочет, занимается своим узлом. Это тоже почетная и очень важная конструкторская работа.
Вот и всё!
Дебилизм правит бал!
Это неразрывно и непрерывно!
Ныне у технарей разрыв в 35-40 лет!
Старшим с опытом технарям около 35, а следом 70 летние дедушки!
Я говорю о технарях творцах!
Вот такой провал, почему ?
Кто технарь поймет, а остальным не надо!
Но у меня в смене из тридцати сборщиков только пару было без ср.технического?
Треть сундуки (мичмана, старшины, прапоры), остальные н/высшее, в других сменах бригадиры были с высшим???
Как я говорил рабочий класс будущего!
Да ну как на похоронах!
Удачи!
Цех в 1800 чел нормально?
Сейчас контора в 500 уже БОЛЬШОЙ пизнес?
Нет лидеров!
Линейных руководителей! То есть принимающих решения, а не "думающих" о вечном и ищущих идеал и просерающих все!
Вы обратите внимание как ненавидят армию! Она бесит общество, от себя добавлю тупое, которое не понимает, что решение необходимо принимать, озвучивать, а за невыполнение карать!
Но мы же демократы!
А в том можно ставить каленый болт 40Х или хвати ст5 с цементацией,решает уже не конструктор , а письмо в институ на другом конце света????!
А к начальству не побежишь, решать надо сейчас и здесь!
Отвыкли и отучили, племя инфантилов выращивают!
Но зато удобно!
Строим общество жрущих и срущих, ПОТРЕБЛЕНИЯ!
Но увы нам попали прямолинейные без извилин власть предержащие!
Если бы эти твари во власти, думали бы о стране, промышленности, этого не произошло бы.
Но у них,левая рука знает что делает правая, и когда правая даёт, то левая тут же отнимает.
Они очень хорошо умеют воровать, а это сейчас главное качество инженера, иначе не видать тебе запусков.
Чем ответственнее должность, тем лучшим вором должен быть кандидат.
При хорошей сноровке, можно наворовать на управление самолетом, нырянием с аквалангом, и даже на ловлю травяночек.
А уж запускать ракеты и разрабатывать нанотехнологии без отсутствия стыда и совести у нас как то не принято сейчас.
То ли еще будет.
ДОЛОЙ!
В чём, в общем-то, похоже что есть «сермяжная правда».
Но – как похожи… и, наверное, родственно так… слово «вор» и латинское «fur»!
А сейчас - как мы видим - "промышленники" развели их в масштабах космических.
Что отсюда следует? А следует, что в компьютерном исчислении используют неверные числа. Числа с плавающей точкой недопустимо использовать. Они могут давать глобальные ошибки. И чем сложнее расчеты, тем вероятность таких ошибок больше.
И потому по мере роста компьютеризации, роста мощности компьютеров количество аварий и катастроф будет расти. А дальше будет еще страшнее. Потому что этот рост в прогрессии.
ПОКА. ПОКА мы не поймем, что ЭТИ числа неверны, не поймем, что надо переходить на другие числа, все будет хуже и хуже. Это кризис компьютеринга. Компьютерной науки и математики. Аварии будут. А ныне все сваливают на человеческий фактор.
Субсидирование и руководство космонавтикой безответственно,потому что многие руководители не
справляются от того,что не знают своего дела.Это может изменить только приход другой власти.
Это так
Возьмите любую отрасль, кроме нефтегазовой или иной сырьевой, и получите ту же картину.
"Перестройка" И "реформы" суть инструменты, с помощью которых уничтожают мою страну.
Поджигатель перестройки и архитектор недоразвитого капитализма генсек Горби получает десятки млн. руб пенсии. За то, что развалил СССР и подготовил почву для уничтожения и РФ.
И этому врагу народа кремлядь исправно платит пенсию.
Предатели платят предателю за предательство.
Плата за счет преданных.
За счет нас.
Это одна из форм изощренного унижения моего народа.
А "понавылезало", однако, многое и многое. Например, - дремавший и еле теплившийся до "перестройки" тот самый пресловутый национализм.
Опять же и "пятая колонна" зашевелилась. Почувствовала слабину.
Плюс всякие "теоретики", совершенно на полном "серьёзе" выдвигают свои антинаучные взгляды, совершенно бредовые и несуразные (например, о существовании русской там, украинской, или какой-либо ещё национальной культуры, задолго до появления питекантропов, то есть многие сотни тысяч лет назад).
Демонстрируется откровенное пренебрежение официальными научными концепциями, так как создаются свои, служащие чьим-либо узкопрагматичным интересам.
Я именно об этом.
"Когда в товарищах согласья нет,
то выйдет из него, только мука....
Однажды Лебедь, Рак да Щука
везти с поклажей воз взялись...
Крылов И. С. "Басни" (с)
История развивается циклически?
К сожалению таких людей изжила и вытеснила с их мест воровская шайка дешевых беспантовых халтурщиков.
Они только жопы лизать могут, а не в космос ракеты запускать.
А есть ли ум у педросни и либероидов? 20 лет показали, что нет.
оборудования,инструмента как режещего так и мерительного такого бардака как сегодня небыло.
Были не только инструментальные клодовые но и цеха в которых изготовлялось это оборудование
и инструмент а токже штампы и пресформы.Уникальность только этих изделий позволяла поднимать
качество конечьного продукта на требуемый уровень.Сегодня есть хорошие програмные обрабатывающие
центра фрейзерные но качественные детали порою требуют не только фрейзерной но и термической а
за ней шлифовка.Уровень подгоготовки итр оставляет желать уровня девяностых годов.Произошло то
что и должно было произойти.Старшие не успели передать свой опыт а молодым долго самостоятельно этот уровень проф пригодности наживать и вряд ли это будет то что надо.Когда затевали сей бардак
и сажали во власть не компетентных руководителей в области тяжпрома.
Сегодня те, кто плохо считают деньги, либо разоряются, либо их деньги начинает считать Степашин.
Колчвк в "Адмирале"-кинохроника по сравнению с" ленин в октябре" или "человек с ружьем ".
К 160 рублям зарплаты, следовало бы добавить все затраты на жизнь которые дотационно оплачивались из общественных фондов потребления, и Вы бы увидели, что у работающих "свободных денег" и сейчас не больше (если не меньше, сравнивая покупательную способность этого остатка), чем в те времена. Не говоря уже о профсоюзных выплатах на лечение и отдых.
Но я, главным образом, не это имел ввиду.
Сворачивание строительства социалистического общества с 1953 года уже несло предпосылки того, "что система скоро крякнет". Просто потому, что не став образом жизни, осталась "системой".
Вся "лениниана" в искусстве и ...
2. Покупательная способность рубля определялась его реальной рыночной стоимостью к $ - бакс реально стоил 6 рублей, средняя заработная плата инженера с премией составляла процента три амeриканского пособия по безработице .
3. Вся лениниана и в искусств,е и в жизни была утопией, которая в политике, как сказал Бердяев превращается в тоталитаризм .
2. Дело в том что в советском искусстве принцип партийности делал иконопись идолопоклоничством .
Прошу прощения, но покупательная способность определяется количеством приобретаемых материальных ценностей, а не количеством портретов В.И.Ленина в обмен на портреты американских президентов. Алхимическим путем деньги в товар не превращаются. Став прямым товаром, $$ превратились в инструмент контроля и регулирования мирового рынка в интересах США, а отнюдь не двигателем его развития.
"Дело в том что в советском искусстве принцип партийности делал иконопись идолопоклоничством ."
Да, но не только в советском, - в любом. Грабли при любой идеологии - грабли.
Относительно критики социализма. Не ясно как можно критиковать перепрофилированный, а затем брошенный недострой, имея ввиду не замысел зачинателей, а факты к которым привели их бездарные "последователи" (это все мы).
2. Покупательная способность определяется рыночным курсом национальной валюты-рубля ,на который купить качественные товары было сложно, к той посредством которой это было сделать просто- в валютных магазинах или за рубежом- баксу .
3 .Грабли , конечно , везде грабли ,но не думаю ,что" Адмирал" появился бы в советском прокате .
4. Дело в том, что замысел зачинателей очень быстро превратился в свою противоположность вместо свобода равенство братства-гулаг и государственное рабство, Стройку, которая ведется в соответствии с пожеланиями будущих новоселов ,никто не бросает, а вот когда проект изначально ущербен, стройка развaливается .
Хоть и Вассерман, а глупость ляпнул.
Портит людей популярность.
Для «Прогресса» использовали двигатели, которые были спроектированы не вчера. Технология их сборки давным-давно отработана, и всё, что нужно – просто строго её выдерживать. Для этого не надо быть инженером семи пядей во лбу, а просто добросовестным технарём – и советское наследие прекрасно будет работать. Правда, гептил оно разбрызгивает, но на это почему-то плевать...
Мы ничего не знаем, какая на этих заводах система проверки и приёмки. Знаем только, что первый «Челленджер» упал по той же причине: взорвался твердотопливный ускоритель – прогорел корпус.
Я не буду призывать вернуть советскую систему работы в оборонке и космосе. Там в принципе не было ограничений по деньгам – лишь был бы результат. Поэтому советское оружие по качеству всегда опережало буржуйское, но взамен мы имели отсталость в мирной технике и всём, что работало для людей. И взаймы нам давать перестали.
В капстранах в производство тоже приходят люди, заточенные на получение прибыли, но им это почему-то не ме...
А почему тогда конгресс США сотрясается от жалоб их
военных на коммерческое программное обеспечение в действующей армии,
не способное выдержать ни массированных взломов по качеству криптографии, ни кибератак на их любезные беспилотные дронты?
И репетируют каждый день атаки китайских хакеров,а?
Люди устали от лая.
Что ни сделай, - всё обосрут из глубины коммунистической юности!(((
Или может не при социализме Чернобыль долбанул?
Или может все таки нам об этом в ТЕ времена не спешили сообщить, а только и делали, что рапортовали о центнерах с гектара по сравнению с 1913-м годом?
Комментарий удален модератором
Кроме того, еще есть надежда (слабая) на возможность производства в космосе материалов, которые мы не можем производить в услвиях гравитации, ... .
Так что прибыль есть, но не прямая (вы не платите из своего кармана за навигацию, за прогноз погоды, ...), но если их убрать, то станет куда хуже.
Одни люди принимают НЕПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, потому что руководствуются ЛОЖНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ и чрезмерно увлечены корыстными интересами.
Другие люди вынуждены жить в соответствии с принятыми НЕПРАВИЛЬНЫМИ решениями.
Достижение глобальной цели предполагает наличие дерева подцелей (локальных целей) и дерева критериев. Если глобальная цель и локальные цели между собой не согласованы, то это просто неадекватность. Декларируют одно – делают другое.
Отсутствие государственного, более того – исторического мышления, привело к деградации общества. Откуда же возьмётся прогресс техники! Да просто откуда взяться нормальной работе сложных технических систем, если нет ЧЕЛОВЕКА. «Все прогрессы реакционны, если рушится Человек» (Царствие небесное автору!).
В остальном же согласен. Проблема в нравственности человеков, в ложных ценностях и порождаемых ими иллюзиях о себе любимых и об окружающих. А Человек начал рушиться ещё при Союзе. Перестройка процесс ускорила, а 90-е довели до ручки. 10-тые - это лишь попытка торможения окончательной катастрофы, но уже и тормозить-то некем и нечем. Идеологический вакуум страшнее финансовых и прочих экономических проблем. Из обломков разношерстных идей складывается лишь "То, чего не может быть", что замечательно показали аниматоры в фильме "Про Федота стрельца удалого молодца". Власть страдает именно дефицитом БОЛЬШОЙ ИДЕИ, соразмерной России. А великая страна с мелкотравчатым населением, озабоченным лишь хлебом насущным, - это почти труп льва для гиен и шакалов.
http://www.andreyvoznesensky.ru/index.php?grpid=2
Спасибо за поддержку.
Когда в политике нет конкуренции, тогда и в экономике - нет прогресса! И настоящий рынок тут НЕ ПРИ ЧЁМ!
Вспомните Франклина Делано Рузвельта, ставшего президентом США (тогда САСШ) в годы Великой депрессии.
Всё дело в личностях! До тех пор, пока сурковы будут убеждать нас в богодонности аморфномыслителя ДАМ и амфоролюбителя ВВП, регресс будет нарастать!
Великий Михаил Булгаков писал в начале прошлого века: "Разруха в головах..." Прошло почти сто лет, а неразрушенных голов в стране, практически - не осталось!
И что самое страшное - главным разрушителем является политика нашей власти, её отношение к народу, к тем, кто в этих нечеловеческих условиях не только как-то пытается жить, но и стремится подпитывать материальную базу, на которой паразити...
рынку нельзя доверять страны и людей . рынок это привоз в городе Одесе и всё.
усвойте это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не могу отреагировать на ваше матерное наверное типа ФДР.......Но сочуйствую, что не можете спорить даже при упоминаниях о Мише... С чего бы так?!... Наверное всё дело в людях, которые терпят эти политиков уже много лет... и не отворачивают им головы...
Бред полный ваше: "Когда в политике нет конкуренции, тогда и в экономике - нет прогресса!" Конечно ссылки на франклином модно и есть прецендент его поступков.. Но ну его к чёру.
Нужна "ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ..." и т.д. Национализация, экспроприация, изоляция ии ну и т.д. думаю всё понятно..
И будет нормально!!!!
"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей (с большой буквы).. и в балет тоже не лохи.. обхзодимся без рынков."..
Ниже вижу дискуссию о рынке. Не знаю… Вы ОБА правы. А главное, что хочу сказать, так, насколько я помню, при Рузвельте именно и попридержали рынок. Там и тогда было создано 4 администрации, если я правильно помню.
Миллионы уничтоженных крестьян, сотни тысяч учёных, философов и образованных людей, покинувших страну, смертные приговоры по облыжным заявленям - всё это только часть геноцида против народов россии, планомерно осуществлявшегося этой Властью!
Власть сегодняшняя - продолжение той, советской! Но если прошлая Власть как-то маскировалась, используя в качестве призывов и лозунгов провозглашённые ею принципы коммунистической морали (так похожие на библейские 10 заповедей), то нынешняя Власть, всякие моральные и нравственные нормы просто отбросила за ненадобностью, поскольку умных, честных, способных к сопротивлению людей - не осталось!
Власть "советов" об этом позаботилась, "зачистив поляну" до беспредела!
Подобное - порождает подобное!
Посему, давайте пошлём к чёрту ФДР, тем более, что Вы увидели в нём что-то матерное, и будем потихоньку, полегоньку сползать в пещерный век, к первобытному коммунизму... ФЛАГ ВАМ В РУКИ!
А я - буду будить людей, конкретно помогать им!
Если Ваша, как Вы говорите "душонка" действительно не подлая, то что есть у Вас предложить как программу действий, что сами вы готовы делать?Ау-у-у!
Отзовись душа, кликни людям Зов!
Чтобы не чихать так, как Чихарёв!
Программа Рузвельта включала в себя:
1.Запрет банкам на вывоз золота (сейчас это валюта) за границу, без санкции Конгресса.
2.Введение закона о профсоюзах и предпринимателях. Предприниматель не мог принять на работу НЕ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА, а профсоюз контролировал заработную плату работников.
3.Создание реализацию государственной программы строительства автодорог и гидростанций для резкого повышения числа рабочих мест.
4.Создание и реализацию программы поддержки фермеров (50% инвестиций - государство, 50% - предпринимателей торговых и перерабатывающих с/х продукцию фирм).
5.Ежепятничные выступления президента по общеамериканскому радио с докладом о проделанном за прошедшую неделю и планами на неделю наступающую
ТАК ФДР СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ В СТРАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, ИЗБРАННЫМ НА ТРЕТИЙ СРОК!
А у нас, что Путин, что Медведев, только и могут говорить про инновации, да в море амфоры вылавливать, как ловил рыбу в фильме "Бриллиантовая рука" герой актёра Миронова!
ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!!!
Это как раз и наследие советской власти .
Когда при СССР развивали космос , на него работала вся страна . Вы да же не представляете столько это стоило тогда . и все за счет людей . И рынок тут совсем ни при чем .
чётко: "Бюрократы чёртовы! Устроили кормушку из государственной должности" и добавляет:
"Сегодня он торгует возможностями, которые должность даёт, завтра Родину продавать будет".
Вот и продали замечательное государства. Говорю, "замечательное", потому что с 1985г.
прошло пять советских пятилеток. Это, как с 1945 по 1970. А за это время страну из послевоенных руин подняли, в космос полетели, системе нашего образования Джон Кеннеди
завидовал. А сейчас Вассерман правильно пишет о "возрождении системы среднего и высшего образования", надо только добавить и среднего специального (ПТУ) потому что высококвалифицированных рабочих не в капустных листьях находят. Без таких рабочих ракеты
не создашь. А они настолько сложны, что наверное думают, слыша "совки, быдло советское и прочее": "На кой хер лететь куда-то для этого ворья, для этих бандитов. Пусть сами наквасятся, обкурятся и летять по утрянке к своим хозяевам за океан!"
А слабо другу Лужкова назвать имена разбогатевших на российских источниках лиц, даже малая часть богатств которых помогла бы воскресить наши технологии?
Миллиарды рублей сгорели. А разве кто-то из отвечающих за запуск остался без ужина? Разве кого-то уволили с "волчьим билетом", так чтобы он, кроме как сантехником, никем бы не смог устроиться7 Разве кого-то отправили в колонию на 10 лет подумать о своём поведении? Нет. А зачем тогда напрягаться?
Курчатов лично стоял и своими глазами наблюдал, как идёт закладка урана, когда делали атомную бомбу. А Перминов или Поповкин лично контролировали, как идёт производство ракет и подготовка к их запуску?
Свобода - это ответственность. А безответственность - это гибель.
Комментарий удален модератором
Экономика по Чубайсу, воспитание и образование по Фурсенко, а результат по Черномырдину..
Одни нововведения фурсенко дорого обойдутся.... Практически ликвидировано профтех образование, а что творится в наших ВУЗах? Легко сломать социалистические производственные отношения, но ввести капиталистические одним политическим решением невозможно.
Вот оттуда и все огрехи новой , так сказать, рыночной системы........
Ведь нет такой отрасли народного хозяйства, где имеется рост. Созданы условия для проявления самых низменных человеческих качеств. Но выход ведь должен быть! Одними призывами нельзя изменить ситуацию.
- корыто, называемое параход затонуло. 122 трупа
- самолет летавший аж 50 лет, рухнул
- самый дорогой и большой неработающий спутник вы запустили :)))
- ваша подлодка сломалась как и ваша ракета
- ваш распиаренный самолет который вы выдаете за 5е поколение не летает :)))
- ваш "прогресс" упал :))
у вас каждый день самолеты падают, поезда сталкиваются, 50 летние параходы тонут, склады взрываются :)) И это далеко не полный список.
- выброс культуры сибирской язвы в Свердловске,
- взрыв на Маяке и образование Восточно-Уральского радиоактивного следа.
Но, есть другой аспект, пример которого:
Выводы Счетной палаты, проверившей одно их предприятий. Результаты были оглашены минувшей весной. НПО "Энергомаш, продавал американцам двигатели за полцены, убытки в 2008-2009 годах превысили 880 млн рублей. Из 2,5 млрд рублей, которые выдал бюджет на модернизацию, целевым образом ничего не потрачено, зато некоторые акционеры искусственно завысили стоимость ценных бумаг в восемь раз и продали их государству. Тем временем руководители выписывали себе по 100 годовых окладов в качестве премий. Потом начальство уволили, поставили другое, но в короткий срок навести порядок в такой масштабной отрасли, даже на одном предприятии вряд ли возможно, делает вывод еще один эксперт - обозреватель журнала "Новости космонавтики" Игорь Лисов. - сообщает "Вести ФМ" на странице http://www.radiovesti.ru/articles/2011-08-25/fm/9186
Долго ли предатели будут ещё вредить?
Комментарий удален модератором
Между прочим, из тех, кто с тем же Королёвым работал, ПТУ тоже никто не заканчивал, просто начинали работать, когда их не было.
Причина совершенно в другом, а этот очередной панегирик СССРу - крайне примитивен, как и все подобные писания.
Если смотреть с точки зрения "кому выгодно", то это США.
Их космическая программа терпит поражение. По крайней мере на данном этапе.
Это очевидный факт.
На такой случай можно было какому-нибудь завербованному технику на Байконуре передавать ма-а-аленькие устройства или тупо перед пуском указать ему просверлить где-то в корпусе дырочку.
Конечно, я несколько утрирую.
Но.
Но.
Как-то в обсуждении много говорилось о потере качества технических кадров.
Это, безусловно, неоспоримый факт.
Однако, не забывайте, что такая же картина и в органах безопасности.
ФСБ - это бледная тень КГБ, многие её нынешние сотрудники (хотя, наверное, не все) - бездари и погрязли в коррупции.
И Россия в целом, и её космическая отрасль в частности сейчас намного слабее защищены от шпионажа и диверсий.
Кто старый уже и ещё молодёжь...
Уходят на запад, работу бросают
Крутейшие профи, таких не найдёшь!
Отличные техники и инженеры
За бабки стараются также теперь,
Ну есть патриотов, конечно примеры
Но вот в "технарях" очень много потерь.
Тех.вузы имеют теперь факультеты
Чтоб Эко.. и Юро... людей охватить
И уровень низок заметно при этом
С трудом могут Виндоус установить.
Старея, уходят советские кадры
Их место теперь занимают плоды
Системы иной и которые рады
Доходы извлечь. Далеко ль до беды?!
космической отрасли (потеря квалифицированных кадров, отсутствие достойной смены). Наступили на свои же грабли.
Так вот про детишек которые учились в этом училище - заходят после перерыва и вес хихикают так по дурному. Спрашиваю старого мастера мол чего хихикают, а тот в ответ что накурились травки дебилы вот и хихикают. А вы Михаил плачете по системе ПТУ. Кстати это ПТУ готовит кадры для очень секретного производства, это даже не космос
Другой вариант, для интеллектуальных дистрофиков, - стать юристом или экономистом. Эти "профессии" у нас придумали для детей-олигофренов, которые в избытке рождались от воровской элиты еще в СССР. Во всем мире юристов и экономистов готовят совсем по другим программам, которые смогут потянуть единицы по всей стране. В частности, нужно знать математику. А это, как и физика, - непреодолимый барьер для этих олигофренов.
Ну и наконец, сравните зарплаты инженеров и юристов.
Пахать всю жизнь, чтобы ничего не иметь?
Ну и бизнесмания - вариант легких денег для молодежи.
Что космос? Дома рушатся на головы людям, падают самолеты и вертолеты, поезда сходят с рельсов, тонут суда и т.д.
Все это по той же причине - нет образования.
И уже поумирали толковые учителя и преподаватели ВУЗ-в. Их зарплаты получили другие - окорочкастые бизнесмены и чинуши.
Хотите выучить своих детей, как в СССР, отправляйте за границу, начиная с детсада.
И прикинте свои доходы, хватит ли, на кусок хлеба с водой, если выучи...
И даже в области балета, мы впереди планеты всей"
Горят, взрываются ракеты и рвет турбины Енисей,
А балерины из балета готовы "дать" планете всей!
Первое о надежности Протонов. В 1982 году я служил на Байконуре т за одну неделю были сорваны два запуска, т.е. ракеты взорвались в воздухе. Ну это так к слову.
Второе, если мало вкладывать денег в проектирование, научные разработки и производство, то такие ляпсусы неизбежны. Они были и при СССР, но тогда эти ракетоносители называли по разному, хотя стартовали они с двойки и с 32 площадки, дублере двойки.
Да и сейчас уже виден конец космической эры России. кремлевские карлики-крысы, так и не смогли пересилить себя и вложить достаточное количество денег в космическую отрасль. А если и вкладывали, то только из расчета что барыши будут получать офилированные с ними фирмы и друзья. Вот и этот спутник стоящий миллиарды, принес бы большие барыши ТВ, сотовикам и другим фирмам. А народ получил бы опять ничего.
Народ получил бы связь. Спутниковую. Причем там, куда оптику протянуть нереально.
Плюс народ получил бы дешевое цифровое телевидение в медвежьих углах.
Содержание оного - не ко мне вопрос, я инженер.
У меня сейчас кабельное телевидение, почти 70 каналов, смотреть практически нечего. И конечно люди в медвежьем углу ждут не дождутся цифрового телевидения. У них дел невпроворот, а им комеди клаб. Дом-2 для того что бы они цивилизованные были.
Нет не для этого наши карлики проводят цифру.
А за привет спасибо.
А наследия уже нет. Нарушена связь поколений. Специалисты, которые могли бы передать опыт работ уже ушли, а новых за 20 лет не создали. Молодому специалисту: рабочему, технику, инженеру, ученому уже не у кого учится. Максимум, чему могут научить старые специалисты, это показать, как работать с отслужившим свой срок, оборудование.
Наукой и производствам руководят менеджеры и юристы. Дальнейшие техногенные катастрофы неминуемы.
Прохоров усрется создать что-нибудь стоящее.
Зачем в космос вообще соваться ???
Обращатся по тел:???????????? Путин В.В.
И эта безответственность начинается сверху и проецируется в самый низ- до самого последнего рабочего.
Во времена СССР, не будем заходить очень далеко, существовало наказание в виде исключения из партии- практически гражданская казнь, надо сказать, наказание похуже чем тюрьма. Что сейчас? Развалил работу- иди разваливай в другое место. Нет чести и достоинства, все меряется баблом, много денег- достойный человек. Только в бизнесе и в науке нужны различные личностные качества, и рабочий и ученый это далеко не торгаш.
Дальше будет хуже.
Как-то незаметно оттеснили из производства Производителей, особенно среди руководителей, их места захватила шушера с дипломами о в.образовании устроенная по родственному. Одна из Красноярских директрисс школы хвасталась что ВСЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ поступили в ВУЗы! Вот в Томске, где готовят кадры для атомной промышл. большой отсев дураков И ПОТОМУ ЧТО там работает 1-й отдел ФСБ, и никто не берёт взятки -- потому что СТРАШНО, можно познакомиться с бытом на зоне. Это конечно последнее Дон Кихотство нашей россиянии, да и сидеть на штыках долго не получиться, но что может изменить моральный строй в стране? Вот главная тема должна быть для раз...
1. Смена поколений научно-технического персонала. "Молодежь" опыт пока приобретает, возможно "старики" плохо учат. Разберутся, главное что бы не мешали и "помощь" не оказывали.
2. Внешний "посыл", от "друзей" по космической программе. Это вотчина других "специалистов", им и "карты в руки", главное, что бы не проморгали.
Делать столы бы из этих голов -
Крепче бы не было б в мире столов!
"Знаете, с этим "Бураном" какая история? Почти всю космическую технологию, связанную с полетом человека и его жизнеобеспечением, кроме ракетных двигателей, где мы благодаря Сергею Королеву изначально были новаторами, советские спецы получали в результате промышленного шпионажа из-за океана." http://utro.ru/peredovica/
Да, были отдельные направления, которые развивали Королев, Челомей, Глушков, ... Но это все-таки направления. В СССР они тоже не переросли в полноценную систему.
Откручивают гайки,как например у Т-50.
Комментарий удален модератором
Та страна, что была раньше свой запас прочности исчерпала, потому и погибла. А новая России, вместо того, чтобы учесть этот печальный опыт, и начать строительство нового, как соседний Китай, к примеру, с чего-то вдруг решил, пожить на обломках, утративших прочность, еще какое-то время, столько, сколько сможет.
Видимо, Россия так была создана, что не может без захвата новых территорий, новых народов, без паразитирования на захваченном. Как только Россия остается сама с собой, тут же проявляется признаки деградации...
Комментарий удален модератором
Аргументированно ответить не смогли, и отсутствие аргументации решили хамством компенсировать? Этот приемчик не новый...
Комментарий удален модератором
Любая техника имеет право на отказ... .
В общем и целом, сложившаяся ситуация должна квалифицироваться как АПОКАЛИПСИС.
А то что, Апокалипсис так мало похож на классическое описание, так это делает ЧЕСТЬ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.
Советская система и социализм по Марксу - рядом не стояли , равно как текущая экономика, пропитанная совковостью по всем измерениям, к рынку имеет весьма отдаленное отношение.
Конкретных причин падения ракеты никто не сообщал. Выдумывать свои причины и привязывать их к своим предпочтением к приличным занятиям не отнесешь.
Это результат "правления" сначала Ельцина, затем Путина, теперь вот Медведева.
А что, собственно, хотеть от людей, которые гайку от болта не могут отличить?! У которых все знания и умения сосредоточены только в получении денег любой ценой?!
Классики, помнится, ещё о спиралеобразном развитии говорили.
Ну ,случилось, а у кого не случается?
Аварии могут быть всегда и везде- нужно извлечь уроки, а не посыпать себе голову пеплом
на эту тему есть хорошая древняя статья Ля Роша... - кто хочет - могу дать почитать.
Я знаю только два достижения
- утопили станцию "Мир".
- переделали лучший в мире по характеристикам космический корабль "Буран" в ресторан.
Всё остальное: достижения Советской космонавтики, многие годы продолжающие работать на Роскосмос.
А кто эту систему создал ?. Ну да , сейчас я услышу в ответ , что американцы за все заплатили , что нас подставили , что нас опять обманули . и вообще мы ничего не решаем а решают ОНИ .
Конечно , если у руководящих лиц страны дети учатся там , да и сами чиновники едут лечится и отдыхать , опять же туда , то возникает вопрос , почему так , неужели у них специалисты лучше , или учат так как то по особенному . Не думаю , что это так . Просто происходит элементарное воровство . Только это воровство мозгов . И начинать нужно не с НИИ а с телевидения , газет и радио . Это оттуда много лет нам рассказывают и показывают как там легко жить . Как там все ну просто замечательно .
Есть такой фильм " Кудряшка Сью" там есть замечательный эпизод , когда нищая девочка поет гимн своей страны . Несмотря ни на что , она гордится своей страной , в отличии от нас .
Если при советах космические программы имели возможность питаться за счет всего населения СССРа, всех ресурсов, и всей территории, то сегодня Россия имеет только собственный ресурс во всем, включая и космические программы. Как оказалось, одной России свои программы даже поддерживать уже невозможно. Не от сюда ли мысли у Москвы о "собирании земель"?
Социалистическая экономика, имеющая командный, казаренный принцип в своей основе, была порочна с момента возникновения самой идеи и до попыток ее практической реализации. Ни где, ни в одной точке Мира "социалистическая экономика" в ее кремлевском понимании не доказала своего превосходства над рыночной. Автор, тоскуя по сталинизму, видимо, готов снова загнать людей в лагеря и бараки, лишить их самого необхожимого, включая еду, одежду, моющие средства, только ради того, чтобы попытаться выйти в перед в космической гонке в США? А народ этой гонки хотел бы в обмен на нищету? В тот то и проблема, что США выиграли гонку не за счет нищеты своего народа, на подъеме его жизненного уровня.
"попытаться выйти вперёд в гонке с США","США выиграли гонку"-Савелий,вы за слова-то отвечаете?Ведь сейчас США "не летают"вообще,кто выиграл-то гонку?
Для Вас самого очевидно по результатам гонки, кто летал на Луну, кто летает на Марс, а кто еще и сегодня вынужден летать на аппаратах полувековой давности.
Я сожалею не о том, что сейчас ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЁТЫ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО РОССИЯ, а о том, что Россия ничего нового не может сделать для этого, и эксплуатирует то, чтобы было сделано за 20 лет до того, как нынешняя Россия обрела свой государственный суверенитет. США ведет разработку нового аппарата для пилотируемых полетов, и нет сомнения, что этот новый аппарат будет построен. А что есть у нынешней России кроме старых проектов, реализовнных до ее появления, как суверенного государства?
РАЗРУХА В ГОЛОВАХ И, СООТВЕТСТВЕННО, ВО ВСЕМ. ТАК СКАЗАТЬ = "МОДЕРНИЗИРУЕМСЯ". Или "мУдернизируемся"???
Вот теперь дошла очередь до сапой передовой отрасли советского наследия - космической! По ТВ3 часто показывают фильм "Жизнь без людей"о том, во что превратятся дела рук человеческих, если исчезнут люди! Все строения, без людской заботы просто разрушатся, превращаясь в прах! Россия уже превращается в такой призрак человеческой цивилизации!
Уже очевидный развал космической отрасли, очередное тому подтвержден...
до строителей космических аппаратов. А эта система, видимо,сейчас не работает и советское наследство тут
бессильно.
Очень скоро найдут крайнего, жестоко накажут и обяжут выплатить круглую сумму, затем, заткнут дыры лимонами, а затем...
На месте падения соорудят Храм Божий.
На большее они не способны.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
"У них никакого опыта, акромя сексуального"
Базар тут. Кто-то комментируя меня сказал что бизнес прагматичен а не "сволочен" (это новый термин, однако, только что получился :)). Прагматизм, тем не менее, должен иметь границы. Формула прибыли должна быть комплексной (мнимую часть содежать). Слишком крупный частный бизнес не должен быть частным и зависеть от одного или даже группы человек.
Космос - это пока что очень крупная задача и долна быть государственной. И типов типа Чубаиса к нано-, космо-, энерго-, ... технологиям не только близко подпускать, а даже при попытке повернуть голову в их сторону - доворачивать до полного отделения от плеч.
Что происходит? В погоне за прибылью начинаются сокращения либо численности !работающих! над темой, либо - урезание зарплаты. Клеркам, которые должны обслуживать процесс (без этого ни как), присваюивают звание менеджер и назначают оклады большие, чем они заслуживают. Место в управлении становится завидным и престижным. Сразу же раздувается управляющий штат, часто не имеющий отношения к делу, растет число отчетов в которых вязнет этот штат. И все...
Эта штучка к стати (или нет), но от социализма досталась, а может и нет, может значительно раньше появилась.
Сейчас в любом учреждении государевом на управлении стоят такие, прости господи, манагеры, которых я бы во двор с метлой без присмотра не выпустил. Кланы, родственники, просто жополизы - вот и все управление. Фонд зарплаты на этут шушеру зашкаливает на больше половины всего фонда оплаты. Исполнители далеко не всегда простые - уходят, оставляя места уже каким попало. Что попало и получается на выходе.
1-Всё что вы несчастные видите вокруг на 99% делают на токарных и фрезерных станках
2-всё что вы видите собирают из деталей которые сделал токарь и фрезеровщик
-СЛЕСАРЯ - ОТ БЕНТЛИ И ГАРАЖА ДО КРАНА И РАКЕТЫ
3- СССР доктринально был создан во имя
ТОКАРЯ-СЛЕСАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА...
Человек так устроен что его способность к высокой координации взаимосвязанных движений зависят от его психической стабильности и умственного развития
Психическая стабильность это прежде всего уверенность в будущее, перспективы социального роста и
ОЩУЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ САМОЦЕННОСТИ...
После переворота 1991 года
рабочего опустили ниже плинтуса
НАЧАЛИСТЬ ОШИБКИ В 10-М ЗНАКЕ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ...
любой станок и механизм человек поднимает на 2 класса точности
или опускает на 2 класса
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЛ "ВНИКАТЬ" "УПИРАТЬСЯ" "ОСВАИВАТЬ"..
он стал-мантулить, горбатится,..
По всей стране на каждом этапе полетел "Класс точности" и "Чистота обработки поверхности-То есть то что позволяет делать часы Брегет, машины Форд, и машинки Зингер"...
Стали неустойчивыми параметры деталей из которых и собирают ...
Ракетная отрасль - типичный пример большой технической системы, и во всех странах мира она создавалась и управлялась мощной рукой государства. Дае в "сверхрыночных" США. Как только вы пустите сюда капитализм с его логикой прибыли любой ценой -отрасль кончится. ЧТо мы и наблюдаем сегодня в России. Впрочем, и в США тоже. Те свой "Шаттл" закрыли, и даже не скрывают, что ничего взамен у них нет и неизвестно - будет ли. Бормочут про марсианский проект, но это уже даже не смешно... Некому этим заниматься в условиях когда все пилят бабло.
И это прекрасно !
Ибо здравый смысл все же победил ! И победит у нас ...в России !
Космос не нужен людям !
Во первых это не советское наследие , а сталинско-гитлеровское наследие ! Эти два идиёта мечтали уничтожать как можно более людей в единицу времени и на как можно большем расстоянии !
Ибо нет у космоса более никакого назначения ! И никогда не будет ...
В который раз летят
Земля _ Прогресс!
В который раз
Осколки и буханки бьют утят ,
Где зеленеет лес,
Шкворчит болото .
А им летать , а им летать ,
А им летать .. охота !
Без хлеба астронавты молча ,
Выполняя высший пилотаж ,
Могут 40 дней !
Но без воды ? Каждый день моча !
Вонища с каждым днем сильней !
Вашу мать ! Алле гараж ?
В гробу видали мы витки всухую
И матерясь графины
Приставляют крепче к …
-В апреле Юре
В ЦК заданье дали
Собрав последние куски
Слетать в заоблачные
Дали -
поискать где
Колосятся колоски
И пролетая над
Канадой
Он прокричал
Земля ! Земля !
Вот что нам
Надо !!!
И караваны
Помчались за
Границу
Менять на
Золото пшеницу
стали …
Да поздно –
В Новочеркасске
сталина
Рабы восстали …
Не захотели
Мира победители
Жрать пирожки
Без ливера
Всё как …
Обычно автоматы
Каски …
Все шито крыто
Без огласки
Малой кровью
В Русском мире
Но с Юриной
Улыбкой
До ушей и
Шире !
Если поточнее то не гонку а гон .... когда некоторые особи буквально сходят с ума добиваясь определённой цели !
И не за школьной партой а благодаря сТалинским костоломам которые чуть до смерти не запиннали С П Королева в подвалах лубянки в 1938 году и не сгноили в ГУЛАГЕ ...
На свете не было страны
Многострадальней и тупей России
Что после страшной той войны
На космос бросила все силы
На свете не было страны
Почернозёмней чем Россия
Одной рукой держа штаны
Другой в Канаде хлебушка просила !
На свете не было страны
Где на полях пахали бабы
Где корчились армиями лучшие сыны
Попав под сталинские лапы !
На свете не было страны
Где бы подонки у руля
Жизни учили из под нагана ,
Ради забавы для ,
Крестьян в горах Афганистана !
На свете не было страны
Где бы под танец лебедей
Заветам сталина верны
Давили б танками людей …
За три дня дерьмом солдатским
Каждый боец раз в сутки минимум тогда
Гадил в скверы площадей
Но как солдаты ни старались
КПСС исчезла… навсегда!
Все… коммунисты …обосрались .
А теперь преподаватель любого ВУЗа, при виде студента, решает для себя проблему:
- А что а буду с Этого иметь?
А как с Булавой разобрались быстро старыми проверенными методами!
Маленького роста
Совершить теракт
В капъяре очень просто !
Он ходит с палкой
Обутый в кеды,,
Когда ракеты
Стартуют в штиль ,
И ясно видно
Тлеющий фитиль .
Сгорели ступени,
Сгорел Неделин ,
Когда охранники
В небо глядели .
И мы не лыком шиты
Нам как два пальца обоссать ,
Роскосмос с NASA квиты ,
Поджечь челнок на старте
Или когда начнут спускать !
Без сожаленья срубили голову
И не одну
Тех негодяев, что пропустили
Армстронга на луну .
И пусть добилось ЦРУ успеха
В течении последних дней …
И NASA будет не до смеха ,
Посмотрим чья рука подлей !
При бюджетной зарплате в космической отрасли работают в основном одни пенсионеры. Какой толковый молодой специалист из хорошего ВУЗа пойдет на нищенскую зарплату.
Была бы Духовность первым приоритетом, не было бы никаких проблем ни с Советским Союзом, Ни с Россией, ни с Космосом.
Не пришлось бы финансировать дорогостоящую, допотопную, абсолютно беспомощную и совсем не эффективную технократию.
Но использовали бы Космос максимально эффективно, как и все нормальные обитатели Вселенной, при помощи духовных технологий.
Ваши слова звучат красиво, но не по делу. Точнее, не совсем по делу. Духовной технологией не накормишь 200 млн мало духовных тел, умеющих много чего руками, а не только языком.Космическая отрасль кормила страну, загружая не самой хреновой работой и подтягивая образование до приличного уровня. Духовной технологией можно раз накормить тремя хлебами и пятью рыбами толпу голодных, но не изо дня в день по три раза. Да и как Вы себе представляете поголовную духовность населения целой страны? Россия не Тибет, где всех по монастырям можно расселить. Может податься в скиты всем поголовно? Особенно вдоль Южного берега Северного Ледовитого океана. Поглядел бы на Вашу духовность, доведись Вам поработать в моей бригаде плотников-строителей в Ун-Югане, где в июне в палатке не заснёшь, пока не бросишь флягу с кипятком в спальник, чтоб ноги согреть.
Духовность начинается с элементарного соображения о собственной жизни в реальных условиях и очеловечивание этих условий головой и руками. А о державе потом ля...
- Прекрасное и абсолютно правильное дополнение к моей мысли, если ещё прибавить: "...и сердцем."
Именно с этого и необходимо начинать, чтобы затем впоследствии иметь то, о чём я и написал.
Вот тут-то и начинаются проблемы государственного масштаба. Чтоб дорасти до "духовных технологий", надо бы родить сперва ИДЕОЛОГИЮ. Поскольку церковь от государства отделена, то очевидна социальная шизофрения.
Народ не в состоянии самостоятельно согласовать Кремлёвские звёзды с церковными крестами. Хотя сие согласуемо на хорошем уровне развитого сознания. Собственно на это я и хотел обратить внимание Ваше.
Но для достижения полного взаимопонимания нам придётся ещё много потрудиться.
По-видимому проблема не в идеологии. Ленин дал прекрасную идеологию, но её загубили сразу же "на корню".
Сама идеология ничего не даст, тем более насильственным способом.
Любое насилие над личностью, даже с самыми благими намерениями будет порождать лишь ответную агрессию.
Ценны и важны сами носители этой идеологии в массах. Настоящие искренние люди, живущие по ней.
Живущие по ней не ради показухи, но потому, что она является их внутренним убеждением.
И эта идеология существует. И эту идеологию знает каждый, кто бережёт свою СОВЕСТЬ.
Именно Совесть наша знает эту идеологию, которая по сути является Божественным Законом всего Мироздания.
Наша задача лишь постигать эти Вселенские Законы и безусловно следовать им в своей жизни.
Если бы эта задача стояла на государственном уровне, никаких бы проблем не было бы.
А по поводу того, что "церковь от государства отделена" то надо лишь радоваться этому, иначе они в своём тандеме быстро бы навели "порядок" при помощи костров инквизиц...
Провалив один проект - советский, с таким же успехом проваливаем и другой проект, который во всем мире работает, кроме нашей советской России и ее бывших сателлитов, потерявших всякое понятие и представление о существовании в свободных условиях бытия.
Свобода требует познание истины (законов жизни бытия), о которых Вы понятия не имеете от рождения своего, поэтому нормальная жизнь от вас так же далека и недоступна, как луна или звезды на небе.
Рассуждаете про веру как будто не знаете, что нет ни одной страны на свете, которая существует без веры и храма. Может Вам привести образец одной такой страны - это Северная Корея, над которой смеется весь земной шар, как над больными людьми. Тут приехал их руководитель на бронепоезде посмотреть как живут люди в бывшей здесь коммунистической стране. Наверное, северокорейский вариант и идеал больше подходит для вашей жизни.
Беречь свою СОВЕСТЬ и ЗНАТЬ идеологию - это не одно и то же. Тем более выражать её другим, кто не бережёт. Божественный Закон Мироздания Сам Себя знает, но проблема в том, чтобы Его познали люди.
Тут, увы, без насилия порой не обходится. Есть знание, которое впечатывается очень болезненным спосом. Сакральное тем более.
Ваша личная задача - это одно. Государственная и церковная политика - это другое. Разные уровни и качество задач, разные МЕТОДОЛОГИИ их реализации. Чтобы проблему СОВЕСТИ и Вселенских Законов вынести на государственный уровень и сделать "нашей", то есть общей, то как раз и требуется развитая и грамотно оформленная ИДЕОЛОГИЯ, она же и МИРОВОЗЗРЕНИЕ.
"Наука(14) об(09) идеях(23)&qu...
Хотя это первый здравый комментарий.