Последние конвульсии (Воспоминания и размышления о послевоенном сталинском терроре)
Этот вопрос я рассматриваю как физик. Каждая вещь имеет свою тень. Антисемитизм - это тень еврейского народа. А. Эйнштейн в беседе с Михоэлсом, 1942 г. Гитлер хотел нас уничтожить физически, а Сталин хочет духовно. П. Маркиш, январь 1948 г., со слов Моисея Беленького
В молодости не мог вообразить, что когда-нибудь смогу прилюдно называть Сталина тираном и бандитом. Не мог вообразить также, что в старости придётся доказывать, что Сталин действительно им был.
Увы, оказалось, что приходится. Вот что пишет член Государственной Думы, один из руководителей следственного управления Генеральной прокуратуры СССР В. Илюхин 11.12.10: «Я не собираюсь защищать И. Сталина. Он не нуждается в этом. История сама все расставит и уже расставляет по своим местам. На фоне разваливающейся российской государственности, расцвета коррупции, всесильной оргпреступности и казнокрадства его значимость и весомость в отечественной истории будут укрепляться и усиливаться (Курсив всюду мой - МА). Это неоспоримая закономерность, которую невозможно перечеркнуть антисталинскими административными мерами, указами, постановлениями, отвратительным голосованием послушного Кремлю большинства думских депутатов или грязными теле- радиопередачами».
Однако, что ни пиши Илюхин, урон, причинённый Сталиным своей стране и народу общеизвестен. Широка и многообразна его карательная активность. Но остановлюсь на трёх послевоенных делах, двух закрытых процессах и одном готовившемся открытом, которые имеют много общего, жертвами которых оказываются отнюдь не грозящие режиму, а вполне ему, и лично диктатору, лояльные люди. Я имею в виду так называемое «ленинградское дело», начатое летом 1949 года и закончившееся судебным процессом 29-30 сентября 1950 года, дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), начатое в конце 1948 г. и закончившееся судом, шедшим с 8 июня по 18 июля 1952 г. Оба суда проходили без участия не только защиты, но и обвинения – всё решала Военная коллегия Верховного суда СССР. Кратко упомяну «Дело врачей», следствие по которому началось арестами в ноябре 1952 г. и шло полным ходом до смерти Сталина 5 марта 1953 г.
Дела эти правильно рассматривать во взаимной связи, поскольку они проходили примерно в одно время и направлялись одной и той же властной рукой. Уместно полагать, что поскольку во всех случаях отсутствие состава преступления было доказано позднее в отношении всех обвиняемых, задуманы дела эти были в рамках решения единого круга проблем, важных для верховного руководства СССР, в первую очередь лично Сталина. Отмечу, что по «ленинградскому делу» проходили только русские, по делу ЕАК - лишь евреи, а дело врачей было в основном еврейским. По своему же общественному звучанию оно было чисто еврейским. Вопрос о целях проведения этих процессов из-за этой разницы особенно интересен.
13 января 2011года я участвовал в работе конференции, организованной проф. Ф. М. Ляссом в Иерусалиме и посвящённой теме «Поздний сталинизм и евреи». Данная заметка представляет изложение моего выступления на этой конференции.
13 января – не случайно выбранный день для подобной конференции. Именно в этот день в 1948 г. был убит в Минске народный артист СССР С. Михоэлс, а в 1952 г. было опубликовано в газете «Правда» сообщение об аресте «врачей-вредителей», обвинявшихся в намеренном умерщвлении ряда видных государственных деятелей СССР. Оба события я помню совершенно отчётливо. Уже к первому из них разгул улично-газетного антисемитизма, явно поощряемого сверху, достиг высокого уровня. Сообщение о том, что Михоэлса сбил грузовик и что это несчастный случай, мало кого убеждало. Мой отец, как и ряд наших близких и друзей, сразу увидел здесь политическое убийство, и они восприняли его как грозный сигнал, предвещающий переход антисемитизма на качественно более высокий уровень. Разумеется, это было не фантастическим прозрением отдельных людей, но осознанием реальной обстановки. Ожидания определённо оправдывались, события развивались от суда над членами ЕАК к «Делу врачей».
В обсуждаемых делах есть не только сходство – необоснованность и жестокость приговоров, но и впечатляющая разница – в поведении обвиняемых на судах.
Иногда утверждается, что «ленинградское дело» было своего рода «осуждением победителей», т. е. людей, сыгравших большую роль в победе СССР в войне с нацистской Германией. Они будто бы знали порочащую диктатора правду о том, что происходило во время войны на уровне руководства страны. Поскольку усилия осуждённых по «ленинградскому делу» сыграли заметную роль в обеспечении победы в Великой Отечественной войне, их можно было подозревать в попытке сорвать лавровый венок с головы убийцы-триумфатора, проявившего слабости и делавшего грубые ошибки в ходе войны.
На первый взгляд, страхами за свой авторитет, опасениями за сохранение своей власти объясняются и менее громкие дела - против известных генералов-героев войны. Они будто бы действительно дозревали до идеи государственного переворота.
Трудно, однако, вспомнить какие-либо заметные признаки шаткости режима, брожения среди жителей страны или военных, включая и людей довольно высокого уровня. Да и дела ЕАК и врачей-«вредителей» определённо не имели отношения к «защите трона» от посягательств со-победителей в войне. Некоторые доходят до утверждения о том, что сама страна была уже готова к антисталинскому перевороту. Однако я не видел никаких признаков шаткости «трона» ни тогда, ни, ретроспективно, по отношениию к тому времени, сейчас.
Мне представляется, что послевоенные процессы были связаны с желанием Сталина сменить окружение, уже засидевшееся из-за Великой Отечественной войны, притормозившей этот процесс. Уничтожение части партийного руководства вполне соответствовало желанию смены руководящих кадров, ставшей желанной и привычной для Сталина в ходе предвоенных чисток. Пусть на какое-то время «старики» и остались целы – их участь была предрешена. Как следует из их собственных воспоминаний, иллюзий они не питали.
Другой проблемой я бы назвал «стыд победы». После окончания войны период всеобщего ликования сменился временем подсчёта потерь, которые были огромны не только в масштабах государства, но и почти каждой семьи. Здесь требовалось найти и покарать врагов. Привычно подходили для этой роли евреи, которые довольно быстро были сделаны «героями ташкентского фронта», на базаре покупавшими свои ордена и медали.
Перед страной, уже давно поражённой имперской манией, встала задача выработки послевоенной стратегии. Прямая война в Европе из-за абсолютного ядерного превосходства США была невозможна. Но оставались незанятые ниши – азиатская, в первую очередь, китайская. Сюда, на помощь Мао Цзэдуну, были брошены значительные силы. Совсем свободной была ниша Африки, где ослабленные войной бывшие хозяева Англия, Франция и Италия стремительно теряли позиции. Вновь образуемый, с большой помощью СССР, Израиль должен был служить если не окном, то хотя бы форточкой в Африку.
Думаю, именно имперские амбиции России толкали её к идее образования Израиля. Это была поддержка не только евреев Палестины, но и того небольшого числа евреев, которые остались в живых после Холокоста. Однако Израиль, вероятно, с самого начала не рассматривался как место проживания основной массы советских евреев, отношение к которым определялось иными мотивами. Эти люди были вполне полезны СССР, активно участвовали в его строительстве. С началом войны они стали силой, которую можно было использовать для улучшения отношений с Западом и США, весьма прохладных, если не несколько враждебных, даже к началу войны.
Множество евреев были членами компартий Запада, входили во влиятельную интеллектуальную, а в ряде мест и политическую элиту этих стран. Заманчиво было, ввиду явной антиеврейской направленности политики нацистов Германии, использовать возможности диалога «еврея с евреем», западного и живущего в СССР. Для СССР это был существенный сдвиг в политике – от чисто классового подхода к национальному. Он показывал Западу, что лозунги единения рабочих всех стран с целью ликвидации капиталистов могут быть отодвинуты на задний план. Связь через евреев могла также показать, сколь далеко прошёл СССР в решении внутренних национальных проблем.
Еврейская элита СССР также явно была заинтересована в диалоге со своими зарубежными соплеменниками, близость к которым она ощущала и объединить силы с которыми в борьбе против опаснейшего врага явно хотела. Сначала это проявилось в организации крупного антифашистского митинга в Москве 24 августа1941 года, где громко прозвучало обращение к «братьям-евреям» из других стран объединить усилия в борьбе против общего врага. Вскоре, 7 апреля 1942 года, под руководством и присмотром НКВД и наркомата иностранных дел, был создан Еврейский Антифашистский комитет, председателем которого стал С. Михоэлс. В комитете преобладали писатели и артисты, работавшие в основном на языке идиш, что должно было облегчить диалог «свой – свой». Были в ЕАК и научные работники, и военные.
Виднейшие члены комитета – Михоэлс и поэт И. Фефер отправились в турне по Америке, где провoдили многолюдные митинги и собирали деньги для Красной армии. Было получено примерно 50 млн. долларов, но эта, сама по себе впечатляющая сумма многократно перевешивалась достигнутым в ходе турне ростом симпатий к СССР, «где так вольно дышит человек», в особенности, угнетавшийся в бывшей России и находившийся в смертельной опасности под пятой нацистов еврей. Эти симпатии не стоит недооценивать – они сыграли не последнюю роль в том, с какой лёгкостью евреи позднее просто шпионили в США и Великобритании в пользу СССР, передавая ядерные секреты и неядерные технологии.
Однако крайне неудачное начало войны, огромные потери Красной Армии требовали найти виновных. Ими стал ряд генералов, расстрелянных по итогам первого периода войны. Этого было мало. Вскоре жизнь подсказала более широкий подход к проблеме. Именно под влиянием немецкой агитации и выхода наружу внутренних, скрываемых страхом наказания страстей на оккупированных немцами территориях возникли не жалость и сострадание к невинно убитым, а сильнейшие антиеврейские настроения.
В начале 1942 года ЦК ВКП(б) направил секретный циркуляр руководящим партийным органам, где было сказано: «…учитывая, что на оккупированных гитлеровской Германией советских территориях сильно укрепился антисемитизм, нежелательно принимать евреев на руководящие должности в партийные и советские органы». На первый взгляд, заключение странное. Казалось бы, из описанного положения должен был бы следовать иной вывод. Этого, однако, не произошло.
Дело в том, что евреи идеально походили на роль внутреннего врага, ибо занимали в стране видное положение. Усилившаяся в годы немецкой оккупации нелюбовь к ним, никогда не исчезавшая, превращала антисемитизм в естественную борьбу с врагом. После войны они стали именно тем внутренним врагом, который был проводником иностранного вредного влияния – через обнаружившихся за границей родственников, возникших во время войны связей на довольно высоком уровне, близости культурных традиций с Западом, которые в ряде направлений и там создавались евреями.
Иначе говоря, государственный антисемитизм был нужен и удобен, по мнению «императора», для процветания империи. К тому времени полностью пропала нужда в ЕАК. Более того, он стал не только не нужен, но и вреден. Его вред проявлялся в желании сместить основную задачу деятельности с борьбы против нацизма на изучение Холокоста, в том числе и на оккупированных немцами территориях СССР, и на противостояние нарастающему антисемитизму в СССР, ставшему к тому времени важным элементом внутренней политики руководства страны. Уже во время войны некоторые руководители ЕАК заговорили о создании национальных еврейских воинских частей, о создании в Крыму своего рода Еврейской ССР. Таким образом, уничтожение ЕАК становилось государственной задачей наказания внутреннего врага. Ведь, как писал тогда поэт С. Михалков, «те, кто мешал нам воевать, хотят и дальше нам мешать». На «тех» надо было указать и их ликвидировать.
Я упоминал выше о сходстве рассматриваемых процессов по форме. Близки они были и по методу подготовки: в ходе следствия несчастных нещадно били и унижали. Признания достигались именно таким образом. Тот факт, что процессы не были задуманы открытыми, подобно расправам 1936-38 годов, объясняется, возможно, тем, что фигуранты дел не представлялись столь важными, чтобы долго и прилюдно тянуть волынку суда. Возможно, и открытое громкоголосое выражение одобрения народом решений по ленинградскому и подобным делам полагалось ненужным. Слишком очевидно было, «кто в доме хозяин», чтобы принудительным воплем толпы «убей» невольно ставить его положение под сомнение. А в деле ЕАК хватило бы и утечки слухов – процесс плебсу был определённо по душе.
Поэтому процедуру можно было упростить: признались, и следует без промедления «взбесившихся собак расстрелять всех до одного», как говаривал главный обвинитель процессов 1936-38 гг.
Однако какой-то суд был нужен. И вот ход его в этих двух случаях оказался совершенно различным, хотя и там и там орудовала сходная по мастерству и хватке Военная коллегия, и там и там обвиняемые не имели особых иллюзий по поводу того, что их ждёт в финале, поскольку ещё 13 января.1950 года в СССР была восстановлена смертная казнь. Основное же различие состояло в том, что если в «ленинградском деле», как и в процессах 36-38 гг., обвиняемые практически поголовно подтвердили данные на следствие признания, несмотря на чудовищность обвинений, дело ЕАК неожиданно двинулось по иному пути. Там, в отличие от других процессов, обвиняемые в суде отказались от своих показаний, данных во время следствия. Это едва ли предвидели следователи, имевшие перед собой интеллигентов, в основном совсем не молодых, ни в малейшей мере физически не готовых к побоям и истязаниям. Оказалось, готовых морально, что, как выяснилось, куда более важно. Следствие по делу ЕАК шло почти четыре года, а ленинградское дело уложилось в год. Гораздо дольше тянулся и суд над членами ЕАК.
Представляется, что военно-партийные деятели потеряли волю к сопротивлению – послушные выдвиженцы, привыкшие к правоте вождя, партии, которую он воплощал, они эту правоту невольно распространяли на его возможность распоряжаться и их судьбой – сначала возвышать, затем и казнить. Это явление иногда называют «комплексом Кестлера», по имени автора знаменитой повести «Слепящая тьма». В деле ЕАК и врачей был другой контингент подсудимых, не выдвиженцев, или точнее, не совсем выдвиженцев режима. Многим из них было существенно, как они умрут. Они не только не видели у тирана имманентного права миловать и казнить, но сознавали ответственность за судьбу своего народа, отчётливо понимая, чем их слабость и податливость отзовётся на ней в обстановке набравших силу антиеврейских настроений в политической линии Сталина.
Приведу несколько выдержек из протоколов судебных заседаний по делу ЕАК. Актер Зускин сказал: «Такая жизнь, какая была и у меня в тюрьме, она мне не нужна. … я заявил следователю, что пишите всё что угодно, я подпишу любой приговор, но я хочу дожить до суда, где бы я мог рассказать всю правду». Заместитель министра иностранных дел, член ЦК ВКП(б) Лозовский сказал суду: «Я им заявил, что лучше смерть, чем такие пытки… Тогда я решил, что лучше я на себя наговорю, подпишу всё, что они записали в протоколе, а потом на суде скажу, как... ведётся следствие».
Врач Шимелиович, заявил: «Я спорил 3 года 4 месяца, и поскольку будет возможность, я буду спорить дальше и со следователем и, если нужно, и с прокурором». Столкнувшись с упорным отказом Шимелиовича давать признательные показания, Абакумов вновь повторил указание: «Бить смертным боем». Шимелиович показал: «Я получал в течение месяца (январь-февраль 1949 года) примерно, с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону, в сутки 80-100 ударов, и всего, по-моему, я получил около 2 тысяч ударов. Такое состояние моё является результатом методического избиения в течение месяца ежедневно днём и ночью. Глумление и издевательства я опускаю. Настоящее моё заявление от 15 мая 1949 года прошу приложить к делу». Рассказав об этом на суде, Шимелиович прибавил: «следователь Шишков говорил мне: «Если вы будете не в состоянии ходить на допросы, мы будем приносить вас на носилках и будем бить и бить».
Профсоюзный деятель и историк Юзефович показал на закрытом заседании суда (т. е. в отсутствие других обвиняемых): «Меня перевели в Лефортовскую тюрьму, где стали избивать резиновой палкой и топтать ногами, когда я падал. В связи с этим я решил подписать любые показания, лишь бы дождаться дня суда». Академик Л. Штерн рассказала: «... были дни, когда меня по два раза допрашивали. После того, как пробудешь целую ночь на допросе и утром приходишь в камеру, а тебе не дают не только спать, но и сидеть».
Примечательно, что именно антисемитские высказывания упомянуты подсудимыми как моральная пытка. Лозовский рассказывал: «Во время восьми ночных допросов Комаров многократно повторял, что евреи - это подлая нация, что евреи - жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что все евреи шипят на Советскую власть, что евреи хотят истребить всех русских».
Выступая на закрытом суде, без надежд на публикацию сказанного, обвиняемые говорили о своей ответственности перед семьёй и другими людьми за фиктивные признания. Лозовский заявлял: «Имею ли я, не член ЦК, а просто рядовой советский человек право знать, за что меня должны казнить?.. Как вообще можно скрывать такие вещи? Ведь это означает падение нескольких голов. Это не только моя голова, это головы моей семьи и ещё целый ряд голов».
Юзефович сказал: «…если бы я пошёл на преступление, я должен был бы стать на путь самоубийства и стать убийцей моей маленькой девочки». Доказывая абсурдность положения обвинительного заключения о прямом сговоре деятелей ЕАК с представителями США, Лозовский говорил: «Смею уверить вас, что мне известно больше, чем всем следователям вместе взятым, о чём была речь в Тегеране, и должен сказать, что там о Крыме ничего не говорилось... Зачем же было обострять эту формулировку, которая пахнет кровью (курсив мой – МА)?»
Лозовский утверждал: «Обвинительное заключение в отношении меня порочно в своей основе. Оно не выдерживает критики ни с политической, ни с юридической точки зрения. Больше того, оно находится в противоречии с правдой, логикой и смыслом».
Крайне мужественно вёл себя на всём протяжении суда Шимелиович, который в последнем слове заявил: «Этим людям из МГБ не удалось меня сломить. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что в процессе суда от обвинительного заключения ничего не осталось». Шимелиович обратился к суду с ходатайством: «Я прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме телесные наказания. ...На основании мною сказанного на суде я просил бы привлечь к строгой ответственности некоторых сотрудников МГБ... в том числе и Абакумова».
Поэт Квитко утверждал: «Фактов, на основании которых мне приписываются преступления, - не существует, и обвинение основано на лживых показаниях некоторых корыстных, бесчестных людей». Академик Штерн сказала: «То, что мне вменяется в вину как космополитизм, с моей точки зрения является интернационализмом. … Я ожидала этого суда с большим нетерпением и боялась, что не доживу, а мне не хотелось умирать с теми обвинениями, которые на мне лежат».
Так развивавшийся, хоть и закончившийся расстрелом абсолютного большинства обвиняемых, суд над членами ЕАК своей цели не достиг. Ему «на помощь» пришло не завершённое благодаря смерти Сталина «Дело врачей». Мало сомнений в том, что его окончанием стал бы массовый погром и депортация евреев в отдалённые районы СССР, со всеми неизбежными последствиями длительного путешествия в ставшей абсолютно враждебной «народной» среде. Ведь фигурантами дела были не какие-то артисты и литераторы. Это были врачи. И их преступления могли затронуть каждого, а потому этот «каждый» не возражал бы поучаствовать и в расправе. Настроения того времени помню сам, и здесь мне не нужно дополнительных свидетельств историков. Здесь я сам – историк.
Последнее время, однако, не найдя (неправильное использование деепричастия, возможное исправление: «поскольку не нашлось») приказов Сталина, или иных прямых документов, возникло утверждение о том, что депортация вообще не предполагалась.. Сейчас некоторые люди пишут, будто Сталин сам начал сворачивать следствие по «делу врачей», намереваясь «спустить его на тормозах». Утверждаю, что никакими фактами «на местности» последнее утверждение не подтверждается. Что касается депортации, то о её подготовке имеется столько устных свидетельств, столько косвенных доказательств, к примеру, нагнетание антиеврейских страстей вплоть до дня смерти инициатора этого дела, что никаких дополнительных архивных данных и не требуется. Ведь шедший всё время вверх накал страстей не мог внезапно и без толку для властей смениться примирением и всеобщей благодатью!
Наивно полагать, будто диктаторы услужливо оставят последующим историкам и архивистам опасные бумаги. Сатрапы же всегда понимали вождей с полуслова или сами становились жертвами. Странно думать, будто депортация требовала грандиозной логистики, включая полное обеспечение поездами, кормёжкой в пути, точного понимания, что делать в отношении смешанных браков и людей, являющихся евреями наполовину, на четверть, т. е. чего-то типа свода Нюренбергских законов. Чепуха это. Такие «мелочи» решала бы импровизация масс. Именно их действия вполне компенсировали бы нехватку вагонов и некоторые неурядицы в обеспечении комфортабельных условий по пути следования.
Напомню, что практически без бумаг и тщательной долговременной подготовки обошлась депортация чеченцев. Да и эвакуация советских людей под натиском наступавших немецких войск отнюдь не всегда проходила по заранее подготовленному плану. И там было много импровизации. Так это же были свои, заботиться о которых необходимо. А если дело идёт о внутренних врагах, чьё изгнание ещё к тому же напрямую было выгодно их соседям – тут-то чего церемониться!?
Иногда говорят, что Сталин, признанный всем миром противник и сокрушитель Гитлера и нацизма, не мог поставить под угрозу свой образ, доведя «дело врачей» до его логического конца. Аргумент этот кажется мне сильно преувеличивающим в глазах Сталина роль Запада и его единства в возможном осуждении СССР. Сталин и его приближённые не держали деньги в западных банках, не имели там личной собственности – движимой и недвижимой. Верно, что СССР не мог военной силой захватить западные страны, даже если бы захотел. Но верно и обратное – Запад не имел ни необходимой военной силы, ни желания применить её против СССР в наказание за какой угодно выверт его внутренней политики. Пошумели бы газеты и левые интеллектуалы, написали бы письма протеста, частью вышли бы из своих компартий, а кое-кто бы в них и вошёл. Да и прикрыты были бы все действия «волей народа», а что может быть выше её!?
***
Расстрелянный в 1952 по делу ЕАК поэт Перец Маркиш на вечере памяти великого артиста 15 января 1948 года, после его похорон, прочёл написанную на идише в тот же день поэму «Михоэлсу - Неугасимый светильник». Там есть такие слова:
О вечность! Я на твой порог иду
зарубленный, убитый, бездыханный...
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны,
Сочти их до одной.
Я спас от палачей
Детей и матерей ценой своих увечий.
За тех, кто избежал и газа, и печей,
Я жизнью заплатил и мукой человечьей...
Видно, что у поэта нет и тени сомнений в свершившемся преднамеренном убийстве. Высказывание же Маркиша, приведенное в эпиграфе, прямо указывает на всемогущего заказчика этого преступления. Чтобы написать подобное, воистину надо было встать с колен. Что и продемонстрировали на суде члены ЕАК, погибшие, но не предавшие себя и свой народ.
Полуэпилог
Время помогает забыть многое, особенно тяжёлое и неприятное. Точнее сказать, не забыть, но, по меньшей мере, отодвинуть на задворки памяти. «Последние конвульсии» затронули очень многих, далеко за рамками прямых участников процессов, и их близких. Они, однако, не только не ослабили, но, наоборот многократно усилили чувство сопричастности к своему народу. Этому способствовала не в последнюю очередь и блестящая победа армии Израиля над египетской армией Насера в 1956. Об этих настроениях свидетельствует, на мой взгляд, и недавно найденная мною среди старых бумаг эта фотография. Она сделана 24 марта 1957, на Фестивале в Ленинградском Кораблестроительном институте. Ни признаков уныния, ни чувства забитости у изображенных на фотографии нет и в помине. Хотя, точно знаю: ни тогда, ни много лет спустя, ни что из описанного выше не забылось, да и научило очень многому. Научило крепко, на всю жизнь.

«Зачем вы это делали, и что это фото означало тогда, в Ленинграде?», - спросил меня коллега из США, бежавший из Германии в 1938, когда я показал ему это фото. «А ничего. Не означало. Не было особых, сиюминутных причин. Просто прилюдно хотели отметить, что мы – существуем!», - ответил я. Печально, что из заснятых «троих уж нет, а те - далече». Во втором ряду слева – автор. Воистину, неистребим «порхатый» дух.




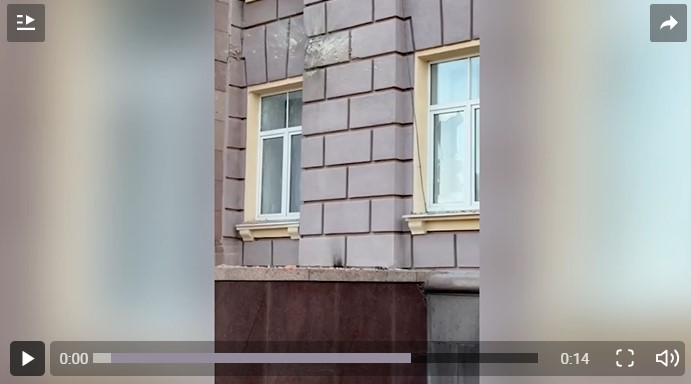



Комментарии
Восхваляя Сталина, Илюхин восхваляет подобные диктаторрские РЕЖИМЫ - Путина-Медведева, Лукашенко, Ким Чен Ира, Пол Пота, Мао, Кастро........
Илюхин хочет нам втюхать ТУФТУ, ложь о том, что будто-то бы при Сталине, при диктатуре советского ТИПА, был и может быть порядок и законность, что при подобных РЕЖИМАХ человеку ХОРОШО и комфортно......И это Илюхин говорит на фоне наших ЗНАНИЙ о морях крови и страданий....Позорище!
Только власть НАРОДА - Демократия - способна обеспечить ЗАЩИТУ каждого гражданина и процветание Родине! Это показывают ВСЕ высокоразвитые демократические страны!
А в Беларуси килограмм гречки стоит уже 16 000 белрублей или 160 российских - такой рЕЗУЛЬТАТ колхозной экономики и 17-летнего правления большого поклонника Сталина и Ленина!
Скажите, а обсуждался в таком же ключе "Ранний сталинизм и евреи"?
Когда крымских татар выселяли под земли для еврейских колхозов...
А потом высылку списали на Сталина...
"учитывая, что на оккупированных гитлеровской Германией советских территориях сильно укрепился антисемитизм"
Что Гитлер обещал при обращении к немецкому народу 22 июня 1941 года, то и делал...
Судя по фото, Давидовы звёзды с гордостью демонстрируют!
Значит это не унизительно?
Чтобы не было антисемитизма, надо семитизм успокоить!
Лгать не надо!
Не надо считать себя высшими, избранными...
Не надо народы стравливать!
Вот тогда и погромов не будет... И в Вашем сообществе отпадёт необходимость!