Чем вызвана неожиданная и поспешная отставка Шеварднадзе?
Этот вопрос продолжает волновать советских граждан.
В чем причина?
Либо происки реакционеров, стремящихся к диктатуре, как о том заявил бывший министр иностранных дел.
Либо просчеты во внешней политике, от ответственности за которые он хочет уклониться.
Народный депутат СССР, собкор «Российской газеты» В. Гулий в статье «Под прицелом подозрения оказалась внешнеполитическая акция страны» выступает ярым адвокатом экс-министра, изображая его жертвой заговора военных.
В. Гулий утверждает, что едва ли не главной причиной отставки министра послужило выступление на четвертом Съезде народных депутатов СССР депутата Петрушенко.
В частности, такие его слова: «Убежден в том, что можно было и надо было вести переговоры с США так, чтобы более принципиально отстаивать интересы Советского Союза, – касается ли это разграничения зон в Беринговом море, подписанного товарищем Шеварднадзе, но не доведенного до вашего сведения, или сокращения вооружений».
В. Гулий видит в этом заявлении стрелу, выпущенную заговорщиками.
В отличие от своего подзащитного, В. Гулий – явно не дипломат, с заявлением своего коллеги по депутатству он «разделывается» до наивности просто – одним риторическим восклицанием: «Мне лично непонятно, как можно «более принципиально отстаивать интересы Советского Союза»?
Цель его статьи совершенно ясна: под видом рассмотрения советско-американского соглашения о разграничении морских пространств напустить туману, в котором общественности не разглядеть – в чем же поступились интересами страны.
Строго говоря, выступление В. Гулия – не повод для серьезной полемики, ибо основное его содержание составляют умолчания, версификация, «вольное» обращение с фактами, личные выпады.
Но на него приходится реагировать по той причине, что в условиях продолжающегося молчания МИДа это – первое выступление по упомянутому соглашению, представляющее позицию бывшего руководства внешнеполитического ведомства.
Главное умолчание В. Гулия – почему соглашение готовилось и подписывалось скрытно от общественности, от Верховного Совета и народных депутатов СССР.
Почему оно и через 8 месяцев после подписания не доводится до них и не представлено на ратификацию?
Думается, потому, что МИД проводил, по существу, ведомственную, и во многом тайную политику, не считаясь с мнением ни общественности, ни высших выборных органов власти.
Длительное время во многих официальных заявлениях, тиражируемых средствами массовой информации, внешнеполитические акции представали как нескончаемая цепь достижений и успехов. Они оставались недосягаемыми для критики.
Но приблизительно с середины прошлого года сдержанность народных депутатов СССР стала улетучиваться, сменяться активностью и стремлением докопаться до сути тех или иных проблем.
В результате мы услышали, что МИД не выполняет надлежащим образом свою основную функцию – договорно-правовое обеспечение интересов страны, что он не предоставляет Верховному Совету СССР необходимую информацию, а в ряде случаев это выглядит как утаивание документов.
К числу таких документов относится и «Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств».
Подписано министром иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе и государственным секретарем США Дж. Бейкером 1 июня 1990 года в Вашингтоне.
Соглашение подлежит ратификации.
Заключению соглашения предшествовали 13 лет переговоров, проводившихся по инициативе США.
Целью переговоров была делимитация, т.е. определение границы (с описанием прохождения и нанесением на карту), суверенных прав сторон на ресурсы вод, а по существу также дна Берингова моря (позже в рамки переговоров были включены также Чукотское море и Северный Ледовитый океан).
Поводом для начала переговоров послужило принятие в 1976 году, сначала США, а затем и Советским Союзом, законодательных актов, регулирующих рыболовство и сохранение рыбных и других живых ресурсов в морских районах, прилегающих к их побережьям.
Однако обе стороны понимали, что, хотя это официально не оговаривалось, фактически главной проблемой было разграничение сфер прав на запасы нефти на дне Берингова моря, в отношении перспектив открытия которых уже имелись сведения.
Это в решающей степени обусловило и выбор тактики, и особую напористость американской стороны на переговорах, а также параллельные односторонние действия США по захвату акваторий, являющихся предметом переговоров.
Для поведения же советской стороны на переговорах были характерны пассивность, уступчивость, просчеты.
Это подтолкнуло американскую сторону к еще более активным действиям с целью развития успеха. Похоже, американцы уверовали в то, что СССР готов ради улучшения отношений с США идти на серьезные односторонние уступки.
По-видимому, исходя из таких соображений, США свою тактику на переговорах построили на использовании с выгодой для себя так называемой линии русско-американской Конвенции 1867 года.
В конвенции, принятой по поводу уступки Россией Аляски и Алеутских островов, указанная линия разграничивала территории суши (включая острова) двух стран.
Она не предполагала разграничения акваторий за пределами территориальных вод (да такая проблема тогда и не стояла).
Специалисты, в том числе американские, неоднократно отмечали, что при разграничении морских пространств совершенно недостаточно руководствоваться только Конвенцией 1867 года.
Она не соответствует современным нормам разграничения акваторий, а использование указанной линии для разграничения морских пространств ущемляло бы интересы СССР.
Тем не менее США задались целью добиться признания в качестве линии разграничения морских пространств между СССР и США именно линии 1867 года.
Под видом уточнения этой линии американская сторона сделала упор на установление некоей другой, выгодной для себя, линии.
Ключевой пункт 1 статьи 1 соглашения гласит: «Стороны согласились, что линия, описанная как «западная граница» в статье 1 Конвенции 1867 г., и как она определена в статье 2 настоящего соглашения, является линией разграничения морских пространств между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки».
Из приведенного текста видно, что США удалось достичь, казалось бы, недостижимого: сначала декларировать признание линии 1867 года в качестве линии разграничения морских пространств, хотя она для этих целей непригодна (а для нас и явно невыгодна), а затем тут же подменить ее некоей другой линией (она определена в статье 2), которая фактически и будет разграничивать акватории.
Конкретные территориальные и экономические потери нашей страны в результате заключения этого соглашения предстоит оценить Верховному Совету.
Мы же хотим обратить внимание на то, что даже на мелкой карте, прилагаемой к соглашению, отчетливо видно отклонение линии разграничения к западу, в сторону советского побережья, от срединного положения между участками суши двух стран, которое считается общепринятой международной нормой при такого рода разграничениях.
Верховный Совет, по-видимому, выяснит также, чем руководствовалась советская сторона на переговорах, уступив США три района, из них два крупных, на территории нашей 200-мильной зоны (на карте – «восточные специальные районы»), получив взамен лишь один небольшой аналогичный район («западный специальный район»).
По некоторым данным, уступленный «восточный специальный район» в Беринговом море – потенциально особенно богатый нефтеносный район.
Обращает на себя внимание такая деталь: карта, приложенная к экземпляру соглашения на русском языке, выполнена на английском.
Это наводит на мысль, что карта была подготовлена американской стороной, а наша просто приняла то, что ей было предложено.
Даже автор статьи в «Российской газете» признает, что СССР по соглашению получил на 74 тысячи квадратных километров шельфа меньше, чем ему полагается при разграничении по срединной линии.
И он напрасно нас успокаивает в том, что утраченный шельф, мол, по мнению неких анонимных геологов, «малоперспективен и никакого практического интереса не представляет».
Поразительны рассуждения В. Гулия по поводу того, что, «прогадав в одном, мы выиграли в другом».
В чем же выигрыш?
Это, по его мнению, – «закрепление восточной границы наших полярных владений», «окончательное определение принадлежности пяти островов», на которые, оказывается, «время от времени» зарятся в США.
Хотя и «не на правительственном уровне», но тем не менее...
Но мало ли кто на что зарится! Откупаться от всех алчущих – никаких богатств не хватит.
Похоже, что В. Гулий сознает, что его рассуждения по поводу якобы соблюденного баланса интересов малоубедительны.
Поэтому он пытается свалить грехи за изъяны соглашения на предшественников Шеварднадзе, а также переложить их на другие министерства и ведомства.
Так, он выдвигает версию о том, что рассматриваемое соглашение было якобы, по сути, предрешено предыдущими договоренностями, прежде всего договоренностью 1977 г., что соглашение всего лишь «развивает и уточняет их».
Отсюда вывод: «Валить чужие просчеты на Шеварднадзе... некорректно».
А писать неправду – тем более!
Ведь в советско-американской договоренности 1977 г. специально оговаривалось, что ею не предрешаются вопросы о разграничении морских пространств между двумя странами в целом и в этих целях используются линии Конвенции 1867 г.
В статье В. Гулия ни слова не говорится о нефти, о том, как в соглашении решена главная экономическая проблема разграничения – распределение прав на потенциально нефтеносные районы.
Нефть – стратегическая цель США при решении проблемы разграничения.
То обстоятельство, что переговоры проходили в обстановке расширяющегося одностороннего вторжения США в потенциально нефтеносные районы Берингова моря, являющиеся объектом переговоров, оказало огромное влияние на их ход и, по всей видимости, на результаты.
В 1982 году американцы начали бурить стратиграфическую скважину в явно спорной зоне – в 175 милях от Чукотки.
С 1984 года США перешли к массовым захватам участков в спорных зонах.
17 апреля 1984 года в Анкоридже (Аляска, США) службой управления ресурсами министерства внутренних дел США была проведена распродажа участков в бассейне Наварин, что, по выражению журнала «Оффшор», внесло новый элемент в отношения между США и СССР. Суть «нового» состояла в том, что США стали открыто нарушать интересы СССР.
Правительство США предложило для продажи 425 участков – было продано 186.
По самым осторожным американским оценкам, по крайней мере на 20 участков из числа проданных мог претендовать СССР.
Участки расположены в 400 милях от американского города Нома (Аляска) и в 150 милях от Советской Чукотки.
Всего же правительство США планировало предложить для продажи 5036 участков общей площадью 28 миллионов акров, из которых 928 участков площадью 5 миллионов акров, по самым осторожным американским оценкам, являлись спорными.
Фактически же все проданные и планируемые к продаже участки располагались в спорной зоне.
Об экономических масштабах операции по продаже участков дают представление такие данные.
Оценка их ресурсов составляла около 200 миллионов тонн нефти и 200 миллиардов кубометров газа.
Только за 20 участков, которые признавались явно спорными, 4 компании выплатили американскому правительству свыше 112 миллионов долларов – в 15 раз больше, чем США заплатили за всю Аляску.
Стоимость всех запланированных к продаже участков должна была составить около 30 миллиардов долларов, в том числе тех, в отношении которых признавалось явное право на претензии со стороны СССР – около 5,5 миллиарда долларов.
Журнал «Оффшор», сознавая остроту ситуации, созданной США, писал: «Проблема состоит в том, что скажет Россия относительно продажи части Берингова моря?»
Россия ничего не сказала.
Открывшиеся обстоятельства, связанные с заключением рассматриваемого соглашения, – лишь самая верхушка айсберга тайн, которые предстоит раскрыть Верховному Совету СССР.
Среди них – ключевой вопрос: почему соглашение заключалось скрытно от Верховного Совета и до сих пор ему не представлено?
Нератифицированное, оно уже более полугода реально действует!
1 июня прошлого года, когда было подписано соглашение, государственный секретарь США и министр иностранных дел СССР обменялись нотами и достигли договоренности о соблюдении условий соглашения, начиная с 15 июня 1990 г., еще до его официального вступления в силу (до обмена ратификационными грамотами).
В этом факте наглядно отразилось игнорирование министром Шеварднадзе Верховного Совета СССР, его уверенность в том, что все, что бы МИД ни представил и когда бы он это ни сделал, законодателями будет непременно одобрено.
Уместно вспомнить: Берингово море у нас не одно.
А еще есть острова (Курильские, например), есть страна – шестая часть мировой суши...
Помимо нефти и газа, есть лес и металлы, золото и алмазы, многое другое.
И мы знаем, что ко всему этому тянутся жадные руки из-за рубежа, а внутри страны стремительно плодятся доморощенные соучастники ее разграбления.
Под видом свободных зон, совместных предприятий, совместных владений.
Внешнеполитическое ведомство во всех случаях обязано надежно защищать международные интересы нашей страны.
А мы имеем право знать, что оно действительно это делает.
Ю. КАТАСОНОВ,
кандидат экономических наук
«Советская Россия», 7 февраля 1991 г.




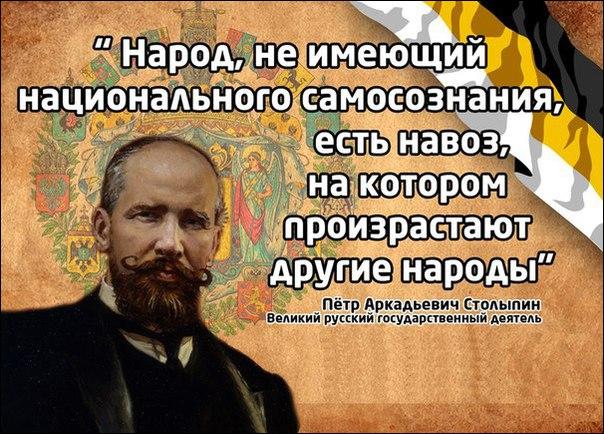



Комментарии
Но сколько в этом деле всяких экспертов и советников, гондончиков, у него было, которые с ним Родину продавали!
А на нет и суда нет.
Более того, объявить российскими Алеутские острова и их внутренние воды... Вплоть до ратификации америкосами.