Японская угроза. Гончие псы Великого океана.
Подписав в 1922 году Вашингтонское морское соглашение, Япония оказалась перед серьезным выбором. Соотношение три к пяти по линкорам с англичанами и, что более важно, с американцами практически закрывало возможность победить в бою главных сил. Оставалось либо смириться с ролью морской державы второго сорта, либо искать принципиально другой способ уравнять шансы. Излишне говорить, что честолюбивые адмиралы - бывшие молодые лейтенанты времен побед русско-японской войны - выбрали второй вариант.
Морской штаб создал стройную систему <обработки> будущего противника, которым уже наверняка должны были стать Соединенные Штаты. Главную роль в <размягчении> линейных сил врага и их прикрытия предполагалось поручить торпедным силам. Аналитики точно подсчитали, что для сокрушения крейсеров и линкоров американцев потребуется 144 эсминца. Но перед этим им придется вступить в артиллерийский бой еще с кораблями эскорта, то есть с теми же эскадренными миноносцами. Было ясно, что уже построенные <дестройеры> не отвечали этой задаче ни по числу, ни по силе.
Конструкторы Страны восходящего солнца приступили к работе над новыми кораблями уже в конце 1922 года, но только по истечении двух лет в чертежах воплотился 2000-тонный эсминец со скоростью 39 узлов, вооруженный двумя спаренными 120-мм артустановками и тремя трехтрубными торпедными аппаратами. Хотя проект выглядел вполне сбалансированным, адмиралы остались недовольны: в отпущенные Вашингтонским соглашением 200 тыс. т таких крупных единиц вмещалось всего сто. Последовало указание: водоизмещение сократить на 250 т, но при этом... добавить еще одну спаренную артустановку, увеличив калибр орудий до 127 мм. Так началась битва японских конструкторов с водоизмещением, а иногда и со здравым смыслом, в попытках получить идеальную боевую машину возможно большей силы и меньших размеров.
Неоднократное перекраивание чертежей и применение передовых судостроительных технологий, в первую очередь сварочных, привели-таки к впечатляющему результату. В середине 1926 года был заложен киль головного эсминца новой, <специальной> серии - <Фубуки>. Инженерам удалось вместить в номинальные 1750 т все, что требовало флотское начальство. Вооружение этих кораблей для середины 20-х годов можно было назвать великолепным, и прежде всего это относилось к торпедам. Японцы заменили воздух, обычно применяемый в качестве окислителя в двигателе <сигары>, на чистый кислород, убив разом нескольких зайцев. Во-первых, резко возросли скорость и дальность: новые 610-мм торпеды могли проходить свыше 20 миль и развивать до 60 узлов на дальности 80-100 кабельтовых! Во-вторых, кислород позволил сделать подводное оружие более скрытным. Бесполезный азот, составляющий 3/4 объема воздуха, создавал большое количество пузырьков, тянувшихся за торпедой.У кислородных же торпед образование пузырей сводилось до минимума, обусловленного только газообразными продуктами сгорания топлива. Правда, новое оружие представляло большую опасность и для самих носителей: при попадании в кислородный резервуар малейшего осколка мог произойти сильнейший взрыв с последующей детонацией боевой части. Тем не менее, японцы не только рискнули с выбором окислителя, но и решили снабдить свои торпедные аппараты вторым боезапасом. Считалось, что первые эсминцы израсходуют в бою с кораблями охранения, а затем, перезарядив аппараты, атакуют линкоры неприятеля. Помня о <кислородной> опасности, японцы прикрыли как сами трубы, так и блоки перезарядки стальными листами, защищавшими не только от брызг и волн, но и от мелких осколков. С этого момента началось неуклонное совершенствование торпед, поиск новых тактических приемов, тщательная подготовка экипажей отдельных кораблей и слаженные, доведенные до автоматизма на многочисленных учениях действия целых соединений. Так рождалась легенда, которой союзники потом дадут имя Long Lance - Длинное копье.
К началу войны на Тихом океане японский императорский флот обладал самыми мощными торпедами в мире, и превосходные качества этого оружия были не случайностью, а результатом интенсивных усилий Японии в 20-е и 30-е годы в деле совершенствования легких сил флота.
Другим важным элементом боевой мощи <специальных> эсминцев стала артиллерия: 127-миллиметровка представляла собой хорошее орудие с начальной скоростью, заметно большей, чем у аналогичных орудий других стран, и могла стрелять на 100 кабельтовых. Орудия устанавливались в настоящих маленьких башнях (обычно устанавливались башенноподобные установки), причем если на первых десяти единицах серии угол возвышения ограничивался 40 градусами, то на остальных он составлял 75, что позволяло вести огонь и по самолетам.
Все это выглядело великолепно, но вызывало у специалистов некоторое недоумение: как самураям удалось добиться того, что не получалось у конструкторов всего остального мира? Что-то должно быть не так!
И действительно, очень тяжелое вооружение, расположенное над верхней палубой, опасно понижало остойчивость. Не помогло размещение приподнятой 127-мм башни в корме, чтобы понизить центр тяжести и уменьшить нагрузку носовой части. На маневрах 1935 года флотилия новых эсминцев попала в тайфун: из него два корабля вышли без передней оконечности, а еще семь получили трещины в корпусе, причем некоторые едва не разломились пополам.
Последовала серьезная модернизация. Высокие мостики и трубы срезали на несколько метров, все резервные торпеды с системой перезарядки (кроме трех) сдали на берег, боезапас уменьшили на четверть, а все еще незанятые отсеки внизу корпуса заполняли топливом или, по мере его расходования, водой. В таком варианте полное водоизмещение превысило 2500 т.
Японцы успели построить только две флотилии (24 единицы) <специальных> эсминцев, когда очередное международное военно-морское соглашение - Лондонское (1930 год) - поставило перед ними очередные, с виду неразрешимые, проблемы. Теперь водоизмещение каждого эсминца ограничивалось 1500 т, что, казалось, никак не позволяло вместить шесть орудий в башнях и девять торпедных труб. Но японские конструкторы совершили очередное <чудо> (оно же насилие над здравым смыслом). Они ухитрились сохранить три башни и поступились только одной пушкой: на шести эсминцах типа <Ариаке> кормовую возвышенную башню заменили одноорудийной, переместив ее в нос над передней спаркой.
При полном комплекте из девяти торпедных труб и девяти запасных торпед 1500-тонный корабль с довольно массивными надстройками выглядел очень необычно.
В строй вошла только пара единиц нового типа (<Вакаба> и <Ненохи>), когда произошло то, что рано или поздно должно было произойти. На маневрах весной 1934 года новейший миноносец <Томодзуру> (о нем мы расскажем в одном из последующих выпусков), перегруженный не меньше, чем его более крупные ровесники, опрокинулся даже не в шторм, а просто на сильном волнении. С таким же успехом на его месте мог оказаться <Вакаба> или <Ненохи>. Звонок прозвенел, и инженеры принялись, насколько это возможно, ликвидировать перегрузку. Почти готовые корабли типа <Ариаке> подвергли практически полной перестройке: на место снятого кормового торпедного аппарата с носа переместили одноорудийную установку; заметно <похудели> надстройки, мостики, трубы и мачты. Но этих мер оказалось недостаточно, и в трюм уложили 85 т металлического балласта. В новом виде эсминцы стали весить более 2000 т, а их скорость упала на три узла. Тем не менее, их остойчивость продолжала вызывать сомнения, и в годы Второй мировой войны одноорудийную башню сняли вообще, заменив ее легкими зенитными автоматами.
Следующую серию (десять единиц типа <Сигурэ>) строили уже сразу по измененному варианту, заменив, правда, два оставшихся трехтрубных торпедных аппарата четырехтрубными. На этом кошмар для кораблестроителей страны Ямато закончился. Хотя срок Лондонского морского соглашения еще не истек, руководство приняло негласное решение выйти из него, так что новые эсминцы могли создаваться уже без жестких ограничений по водоизмещению. Конструкторы тут же вернулись к усовершенствованному <специальному> типу. Ширину корпуса увеличили, а стандартное водоизмещение достигло 2000 т. В остальном десять кораблей типа <Асасио>, вошедшие в строй в 1937-1938 годах, сильно напоминали <Фубуки>, отличаясь от него только своими двумя четырехтрубными аппаратами с полной перезарядкой из восьми торпед.
Заложенные после отказа от ненавистных японцам ограничений <Кагеро> (18 единиц) внешне также мало отличались от предшественников, но значительно больше отвечали запросам флота. Крейсерская скорость возросла с 10-12 узлов до 18, причем новый эсминец мог пройти таким ходом 5000 миль. От использования сварки для монтажа обшивки борта отказались, вернувшись к старой доброй клепке. Водоизмещение возросло еще почти на 100 т, но на максимальной скорости это не сказалось, поскольку удалось усовершенствовать как обводы, так и механическую установку. <Кагеро> стал эталоном стандартного японского эсминца Второй мировой войны: по его образу и подобию с 1942 по 1944 год удалось построить еще 20 единиц (обычно выделяемых в отдельный тип <Югумо>). Еще восемь аналогичных кораблей не смогли даже заложить: не хватало ни материалов, ни рабочих.
Хотя усовершенствованный вариант <специального> типа и в 1941 году выглядел неплохо, японцы не желали останавливаться на достигнутом. В середине того же года был заложен эскадренный миноносец <Симикадзе>, которому отводилась роль родоначальника нового типа. Проект выглядел амбициозным; особенно впечатляли три пятитрубных торпедных аппарата и механическая установка с очень высокими параметрами пара, позволившая без труда развить на испытаниях 41 узел. Однако массовое производство слишком крупного и слишком длинного (и, естественно, слишком дорогого) <Симикадзе> оказалось не по силам ни бюджету, ни промышленности Японии. Он так и остался единственным экземпляром и лишь обозначил собой возможные перспективы кораблестроителей Страны восходящего солнца.
Значительно более удачным стал другой проект. Активно готовясь к войне, японцы обнаружили, что их фирменное оружие - ударные авианосные группы - не имеют достаточного зенитного прикрытия. Хотя <специальные> эсминцы несли универсальную артиллерию, эффективность ее против самолетов противника оставалась невысокой из-за малой скорости наводки башен. Было решено создать совершенно новый корабль - крупный эсминец ПВО. Так появился тип <Акицуки>, один из лучших и наиболее полезных кораблей во флоте Японии. Вооруженный восемью скорострельными полуавтоматическими 100-мм зенитками, он, несмотря на значительное уменьшение калибра артиллерии, выпускал в минуту больше металла и взрывчатки, чем стандартный <специальный> эскадренный миноносец. Неудивительно, что вражеские самолеты, опасаясь попасть под его огонь, по возможности старались держаться от него подальше. Этим можно объяснить относительно небольшие потери эсминцев типа <Акицуки>. Характерный пример: в последнем бою линкора <Ямато> с американской авиацией во время его безнадежной попытки помешать высадке десанта на остров Окинава уцелели оба эсминца ПВО - <Фуюцуки> и <Судзуцуки>, тогда как половина обычных кораблей этого класса пошла ко дну вместе с линкором и крейсером <Ойодо>. Правда, из-за своей малочисленности эсминцы типа <Акицуки> сколь-нибудь заметного влияния на ход боевых действий оказать не могли. Предполагалось построить 54 единицы данного типа, но в строй удалось ввести лишь 12, причем последний - <Нацудзуки> - всего за месяц до капитуляции Японии.
Несмотря на высокие боевые качества японских эсминцев, потери их (как, впрочем, и кораблей других классов) оказались очень большими. За годы войны погибли 134 эсминца, и после капитуляции на плаву оставались всего девять кораблей этого класса.

ЭМ типа Кагеро..

ЭМ типа Фубуки.
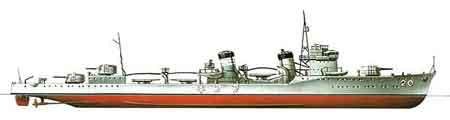
ЭМ Симикадзе.

ЭМ ПВО Акицуки.


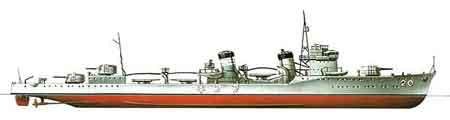




Комментарии