«Мы к вам пришли, чтобы вы к нам не ходили».
Его долго искали, потом нашли.
Все вокруг было переворочено, продырявлено, размолото и перемешано.
Ни одного целого предмета, где уж тут уцелеть человеку!
Он лежал на животе, неловко подвернув голову, и грязная ушанка, припудренная взрывом, закрывала его затылок и шею.
Крови не было. Маргарита заплакала.
Все сняли шапки.
Потом пришли медицинские девочки и доктор.
Доктор отбросил грязную ушанку — шея и затылок были целы.
Убитого осторожно перевернули на спину и увидели лицо белого цвета.
Всех несколько шатнуло, но потом поняли, что это всего лишь мел.
Доктор встал на коленки. Расстегнул ему телогрейку, потом гимнастерку.
Тогда покойник открыл глаза и схватил доктора за руку.
— Ты что, — испуганно спросил покойник. — Ты что?
— А ты что? — обалдело спросил доктор.
— Сплю, — сказал покойник. — У меня увольнительная... Шапка где?
Потом приподнялся и стал шарить вокруг, отыскивая шапку.
Ну, тут Маргарита закричала по-немецки непонятные слова:
«Хенде хох, цурюк, бутерброд»,
— и с разбегу прямо прыгнула на него и стала целовать в обе щеки.
И там, где она его целовала, были розовые сердечки неправильной формы — не то рождественская открытка, не то девятка червей.
И так она его облизывала и рыдала, а солдаты говорили:
«Вот это да», медицинские девочки ревниво улыбались, а покойник дерзко хохотал.
Потом он сказал:
— Да погоди ты, Вероника жива?
— Я! Я!... — закричала Маргарита.
— Да не ты... Девка-то жива?
— Я! Я!.. — кричала Маргарита.
И тогда доктор дал ей понюхать нашатырного спирта.
Ну, был полный триумф, конечно, и дальше рассказывать неинтересно.
Тем более, что салютов не было, а триумф дальше развалин водокачки не распространился — увял через пять минут, и все разошлись по делам дня.
Все думали, что он огромного роста, а он был маленький и честолюбивый, и это понуждало его вести двойственную жизнь.
Однажды он влез на косо поваленный додж-три-четверти и написал:
«Мин нет. Петров».
А потом разбитую машину оттащили с тротуара, и вышло так, что писал дядя аж под два метра ростом.
Над ним смеялись те, кто знал, что он чересчур из себя низкорослый, но он вовсе не слышал этого.
Он слышал в наушниках только гудение взрывоопасных предметов и голос своего честолюбия, которое толкало его писать
«Мин нет. Петров» на двухметровой высоте.
Потому что он хотел, чтобы когда он ошибется и его накроет черная вода, то в памяти людей пусть уж останется гигант-сапер.
В памяти людей, в памяти людей, «Проверено. Мин нет. Петров», писк гетеродина в наушниках, нам нечего ждать милостей от природы, взять их — наша задача, идти на запад и расставлять на расчищенном пути самому себе кратковременные памятники: «Проверено. Мин нет. Петров».
Ну какая разница — два метра его рост или метр шестьдесят без головного убора — и всего-то честолюбия у него на сорок сантиметров, господи!
Какие пустяки, если мин-то действительно нет, а ведь человек разминировал Европу. — Петров! — Я! — Увольнительная... Кузнецов! — Я!..
Ну, про других мы рассказывать не будем. Неинтересно.
А Маргарита была худая, красивая, туфли без каблука, подол рваный — пробиралась через подвалы с Вероникой на руках, и еды никакой...
Была в Москве после войны такая история.
Фамилий не называю, поскольку люди все здравствуют.
Поступил в театральное училище демобилизованный солдат.
Учиться на артиста.
Зима наступила совсем прохладная, и преподаватель узнал, что нет у него ничего зимнего, лязгает зубами в плащике на рыбьем пуху любимый ученик, талант. Преподаватель дал ему шубу — носи.
Носит. Потом перестал носить.
Опять зубами лязгает. «Где же шуба, сапер, пропил? — спросил учитель. — Почему зубами лязгаете?»
А ученик объяснил, что у них в общежитии есть собачка, а теперь она народила щенят и выбрала для своего гнезда его шубу, и ему теперь неудобно, не может он вытащить из-под них всех, из-под матери и из-под щенят, эту шубу...
«Их много, а я один», — сказал ученик.
А учитель и многие другие люди вот уж сколько лет помнят эту историю. Фамилий не называю, люди благополучно здравствуют.
А ученик этот теперь очень хороший киноактер, и все его знают по ролям, потому что в них сквозь чужие слова, которые он произносит, просвечивают его собственные.
Темная клетушка со сводчатыми стенами была набита своими, а там, наверху, над подвалами, слышались взрывы гранат, автоматная стрельба и чужие русские крики.
Потом все затихать стало. «Цум тойфель, — сказал старик с саквояжем. — Цум тойфель». Надо было сидеть здесь хотя бы до ночи.
А там уже думать, как быть.
Но девочка, Вероника, все плакала, ей хотелось есть. Боже мой, зачем все это, весь этот ад?.. Майн готт... только бы пронесло... только бы прошло мимо... Маргарита попросила у старика немного еды для ребенка.
Старик захлопнул саквояж. «Цум тойфель», — сказал он. «Майн готт, только бы принесло, только бы прошло мимо... Нет, не пронесло, не прошло мимо... Вот оно...»
Распахнулась дверь от удара ноги, и ворвался русский.
Он закричал что-то и указал автоматом на дверь. — Шнель! Шнель! — закричал он по-немецки и опять указал автоматом на дверь.
Но никто не двигался, конечно. — Шнель! — закричал русский солдат и дал очередь над головами людей.
И тогда они, дрожа, начали проходить в темноту миме него — все равно... там ли... здесь ли...
Только Маргарита не пошла — у нее дочь на руках. — А тебя что, не касается?.. Да живее ты... Господи, мучение с вами! — закричал солдат Петров, тот самый, помните: «Проверено. Мин нет. Петров»?— и схватил Маргариту за худую руку.
Она дрожа смотрела на него огненными, незащищенными, ненавидящими, огромными глазами, которые были красивые, и вырвала руку, прикрывая дочь. — И ребенок здесь? — вгляделся двухметровый гигант, честолюбец. — А ну, давай сюда девку!
Вырвал ребенка из рук немки и быстро шагнул в туннель. — Найн! Нанн! — закричала Маргарита какие-то свои, немецкие слова и побежала за ним.
Петров несет кричащую девочку по туннелю, а Маргарита бежит рядом, кричит: «Найн! Найн!» — и хватает Петрова за локти. — Живей давай, живей...
Последние остались, — говорит Петров, прибавляя шагу.
Тогда Маргарита забегает вперед, падает на колени, обхватывает его за ноги и плачет горестно. — Вот дура... Ну вот дура, — с отчаянием говорит Петров. — Вставай, тебе говорят...
Тихо, не шуми, руих... — говорит Петров и пытается поднять ее одной рукой.
Но Маргарита бьется в ногах у Петрова, и девочка плачет, и вообще все плохо в этом проклятом туннеле. — А, черт...
— говорит Петров. — Что мне с вами делать? Зальет нас...
Трубы прорвало, потонем...
Мы здесь последние остались, понимаешь'? — говорит он, глядя в безумные глаза Маргариты. — Ну будет, будет, — говорит он, гладя ее по голове. — Слышишь, вода? — он показывает пальцем себе на ухо, потом на туннель. — Вода, слышишь? Вассер...
Понимаешь, вассер?.. Маргарита проводит рукой по лбу, поворачивает голову и прислушивается.
И тогда становится слышен вкрадчивый плеск воды. И становится видно, как пыльное живое зеркало медленными, ленивыми толчками приближается к ним.
Вот когда страшно-то... вот когда страшно... — Бежать надо, — говорит Петров, показывая на воду. — Шнель, шнель! Он бежит. Маргарита рядом с ним, исподлобья поглядывая на его красное лицо.
А девочка плачет, освещаемая светом проломов в потолке туннеля. Они добегают до развилки и останавливаются. — Последние остались, — говорит Петров. — А куда все пошли, черт его знает. Куда идти? — спрашивает он Маргариту, машет рукой и видит слабый свет.
Это пролом в потолке. Конец. Они упираются в завал — рухнула часть туннеля.
А позади плеск воды. Мышеловка. — Ну, фрау, попали мы с тобой, — говорит Петров. — Из-за тебя все, понимаешь?
А у меня увольнительная... Все она понимает. Пока бежала — все поняла.
А Петров замечает, что молчит, не плачет девочка, и глазки у нее закрыты.
Еще бы... Разве для ребенка все это? Разве это для человека?
Стоят люди и ждут, когда затопит их грязная вода.
Сапер ошибается один раз. Петров смачивает водой голову девочки, она открывает глаза и плачет привычно. — Аа, ай, ай, такая большая девочка, а плачешь, — говорит Петров. — Тебя как зовут?.. Как ее зовут. Марта? Да? Или как? Маргарита? — спрашивает он, указывая на девочку.
Маргарита глядит на него исподлобья и говорит: — Вероника... — Вероника... ты чего плачешь? Не плачь... Плачет, — говорит он Маргарите.
Она говорит: «Эссен»...
Она говорит: «Брот»... — Бутерброд... вон что.
Голодная...
Подержи девочку, — говорит он Маргарите, и девочка приникает к матери.
Петров скидывает тощий вещмешок и запускает в него руку. — Эх, ничего нету, что за дело, ну ничего нет... одни патроны, — говорит он, шаря в мешке.
Маргарита смотрит на него, и глаза у нее отчаянные и влажные, как у тушканчика, когда степь, и промытый дождем ветер гонит кислород, озон и что там еще полагается для жизни, а не вонь экскрементов и пороховую гарь. — А я Мишка, Мишка, — говорит Петров. — Ну, скажи: Ми-ишка... — Мишь-шька... — говорит Вероника по-иностранному.
А вода прибывает, и они взбираются выше, туда, где светлеет щель пролома. — Не пролезть, — говорит Петров, просовывая руку в щель. — Неужели так и подыхать здесь, — говорит он безрадостно. — Разворотить бы чем-нибудь, — оглядывается он по сторонам и понапрасну толкает глыбу окостеневшего цемента.
Он снимает автомат, просовывает ствол в щель и налегает.
Он только ломает приклад. — Так... влипли... попались, — говорит он, оглядываясь.
Оглядывается и Маргарита и, посадив на камни Веронику, переползает в сторону и пытается вытащить некий торчащий из обломков предмет. — Стой! Стой! Хенде хох! То есть как его... цурюк! Цурюк! — кричит он, и Маргарита останавливается.
Тяжело дыша, Петров пробирается к Маргарите и смотрит на этот предмет. — Фу ты, так и есть... Смерть это, — говорит он. — Капут, вот что...
Он высвобождает из-под камней нескладный приклад с длинным стволом, на конце которого торчит пузатый снаряд.
Он смотрит на снаряд и спрашивает Маргариту. — А может, попытаться? А?.. Шнель, шнель... — говорит он и показывает Маргарите туда, где грязная вода.
Она испуганно смотрит на него, но спускается, прихватив дочку.
Петров просовывает снаряд в щель пролома, цепляет на спусковой крючок поясной ремень, к нему ремень от автомата, к нему лямки от вещмешка и отползает за выступ. — На... надень каску... — говорит он, кидая каску Маргарите.
И она надевает ее, прижав к себе дочку.
А Петров свободной рукой вытаскивает ушанку из вещмешка и прилаживает ее на голову.
Петров оглядывается и, длинно, толчками вздохнув, тянет за лямку... Остановимся на минутку перед взрывом.
На старых тропинках, на гладких опушках, на темных прогалинах приятно писать стихи для самого себя...
Тогда думаешь: дай останусь наедине с собой и тогда, может быть, на перекрестке дорог встречу я самого себя.
Но тщетно.
В пустом поле себя не встретишь. Не может человек быть один.
Один человек — это даже и не человек вовсе.
Человек, он только тогда и человек, когда он понимает: все мы одно — народ, человечество. И тогда скажешь: люди, все, что вы полагаете счастьем на этой земле, вы можете получить от друга.
Гоните в шею тех, кто думает иначе. И тогда земля станет как сад на рассвете.
И шар земной помчится по Вселенной, пугая звезды запахом цветов...
Взрыв...
Грохот обвала...
Тишина...
Свет ясного серого дня освещает провал, где белая пыль тихо ложится на черную воду.
Сверху тянет ветерком и неторопливо проплывают потрепанные дождем облака.
Потом Маргарита оглядывается и ищет глазами вражеского солдата Петрова.
И потом она глядит и глядит в черный гибельный провал, где исчез русский солдат Петров, которого погубил проклятый снаряд. — Мишька, — говорит девочка по-иностранному. И они уходят вверх по развалинам.
Ну, а триумфальный конец этой истории вы знаете.
Мы с него начали этот рассказ, потому что не в нем, как вы понимаете, суть.
А суть в непомерном честолюбии Петрова. И хотя могут сказать, что честолюбие его было всего лишь в сорок сантиметров, но в эти сорок сантиметров он упаковал очень важные вещи.
Потому что честолюбие в своем первом значении — это любовь к чести, и именно этим, как вы знаете, оно отличается от тщеславия.
Остается объяснить некоторые загадочные детали. Увольнительную на четыре часа Петрову дали потому, что он попросил.
Старшина ему всегда давал увольнительную, когда он просил.
Потому что Петров был мастер, а мастера перегружать нельзя, он и сам работает, пока не свалится.
Увольнительную свою он использовал не по назначению, потому что на уходе из «хозяйства Семенчука» узнал, что в подвалах люди, а водокачка разбита.
Разыскали его, потому что русских солдат привела Маргарита, а лицо у него было белое потому, что «сидор» его порвало и раздавило мел, которым он хотел расписаться на рейхстаге.
Вы все, конечно, помните фотографии щербатых колони, исписанных солдатами, которые дошли до рейхстага.
Самая лучшая надпись — это уже, конечно, мое личное мнение — была такая: «Мы к вам пришли, чтобы вы к нам не ходили».
https://youtu.be/UPjHT0jhwPs


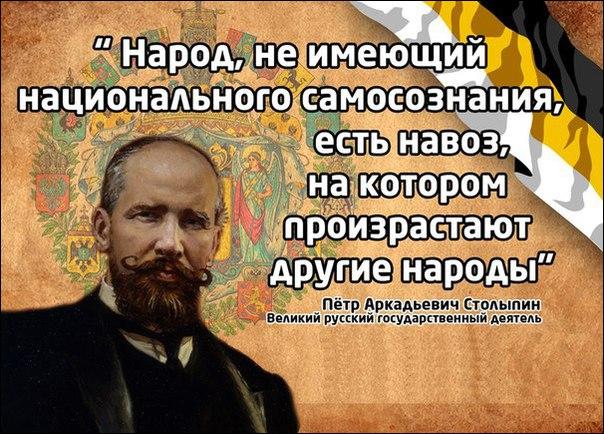
Комментарии