О терроризме, религии и воспитании
Я взял на себя смелость сократить текст выступления академика А.П. Назаретяна на научной конференции в Дубне 17 апреля 2010 года. Надеюсь, что смысл при этом удалось сохранить.
В лаборатории И.П. Павлова проводился такой эксперимент. Голодной собаке перед подачей пищи, вместо памятных всем со школьной скамьи звоночков, наносился слабый удар током. Собака, привыкнув к такой последовательности, реагировала на удар тока выделением слюны и радостным вилянием хвоста. Постепенно сила тока увеличивалась, вплоть до ожоговой степени – и даже в ответ на весьма чувствительную боль собака выделяла слюну и радостно виляла хвостом…
В 1913 году лабораторию посетил выдающийся английский физиолог Ч.С. Шеррингтон. Понаблюдав за этим экспериментом (автор М.Н. Ерофеева), он воскликнул: «Теперь… стала понятна стойкость христианских мучеников!»
Различия между иудаизмом, христианством, исламом и прочими религиями второстепенны. В какого именно из Богов, в которую из Книг и райских картин человек свято верит – всё это имеет значение исключительно с точки зрения подбора реперных точек для манипуляции. Субъект, накачанный возвышающей мотивацией священной войны и нацеленный на скорое перемещение в мир иной (например, для воссоединения с любимым и т.д.), в ожидании смертной муки испытывает эмоциональный восторг предвкушения подобно собачке в эксперименте Ерофеевой. Предвкушение окрашивает в цвета истерической радости предстоящий разрыв тела взрывчаткой или, скажем, голодным львом, а жизнь пары десятков неверных – вполне заслуженная ими плата за вечное счастье «шахида». Дополнительная накачка химическими наркотиками для окончательного блокирования инстинкта самосохранения (на что любят ссылаться комментаторы) – всего лишь вспомогательная деталь на завершающем этапе операции.
Один из мифов, навязываемых массовому сознанию клерикалами, состоит в том, что религия создала нравственность и остаётся её неизменным носителем. В специальной литературе представлены исторические факты, свидетельствующие об обратном (см. об этом. Богобоязнь и упование на потустороннее вознаграждение формируют авторитарный рычаг регуляции, и эта лукавая прагматика исключает собственно моральный выбор. Носитель мифологического мышления пребывает вне нравственного измерения – он, как маленький ребёнок, психологически находится под постоянным наблюдением и не способен нарушить табу просто оттого, что всевидящее око Родителя непременно такое нарушение зафиксирует и это повлечёт за собой жестокое наказание.
Всевластье мифологического мышления было впервые частично потеснено в середине 1 тысячелетия до н.э. /…/. С тех пор именно там и тогда, где и когда ослабевала вера в антропоморфные небесные силы (готовые по своей воле карать и награждать), культура остро нуждалась в более тонких регуляторах поведения. Как раз в таких точках исторического пространства-времени формировались начала критического мышления, индивидуальной ответственности перед собой и людьми и интимная инстанция волевого самоконтроля.
Эту инстанцию мы сегодня называем нравственным сознанием, совестью. Сократ обозначил её греческим словом Даймон, Конфуций – китайским словом Жэнь, арабские философы-зиндики (безбожники) использовали слово Инсанийя (Человечность), и все подчёркивали, что речь идёт об особом качестве мудреца, свободного от мистического страха перед богами, каковой свойствен плебеям. Мыслитель Х века ат-Таухиди, отрицавший, как и его единомышленники, ценность богооткровенных религий («если принесённое пророком вероучение противоречит разуму, то его следует отвергнуть, а если согласуется с разумом, то оно излишне»), подробно объяснял, почему моральные мотивы атеиста превосходят мотивы верующего (см.
[Сагадеев 2009]).
Огромный пласт истории культуры, связанный со становлением критического мышления, может служить ресурсом сохранения и развития современной цивилизации, но о нём не догадываются наши малограмотные идеологи. Предлагая ввести Закон Божий в школе, где нет времени для преподавания астрономии, они толкают страну в Средневековье. В эпоху, когда люди не знали таких слов, как терроризм, геноцид или ксенофобия, потому что это были такие же обычные явления, как телесные наказания в семье, публичные казни, постнатальные аборты (когда родители избавляются от «лишних» или недостаточно здоровых детей), войны, массовые эпидемии и голод.
Пора осознать, что религиозные (и квазирелигиозные – национальные, классовые) идеологии всегда служили механизмом объединения людей в большие группы за счёт противопоставления другим людям. Поэтому их неизменным спутником оставалась реальная или потенциальная война. Исторически востребованными были такие учения, которые обосновывали вражду к чужакам. Священные книги полны прямых указаний типа: «Кто не со Мной, тот против Меня»; «Не мир пришёл Я принести, но меч»; «А когда встретите тех, которые не уверовали, то удар мечом по шее» и т.д.
Как показывают специальные расчёты, уровень физического насилия в современном мире значительно ниже, чем в любой из прежних исторических эпох. Вместе с тем чрезвычайно возросла чувствительность людей к насилию, а также социальная цена насилия. Новейшие технологии становятся всё дешевле, различие между военными и мирными технологиями размывается, а доступ к знаниям и потенциально опасным умениям облегчается. Соответственно, контроль над ними выскальзывает из рук государств и вменяемых правительств, становясь достоянием частных корпораций и компьютерных «гениев», не обременённых социальной ответственностью или опытом системного анализа последствий, а конфликты делокализуются, и каждый как никогда прежде чреват глобальными последствиями.
Имея в виду небывалую доступность современных технологий, американский учёный и программист Б. Джой заметил в 2000 году, что век оружия массового поражения сменяется веком знаний массового поражения. По закону техно-гуманитарного баланса, внутренняя устойчивость социальной системы снижается с ростом её зависимости от индивидуальных действий, если культура не успеет совершенствовать механизмы внешнего и внутреннего контроля соразмерно ускоряющемуся развитию технологий.
В этих условиях «религиозно-идеологический ренессанс», возврат к давно изжитым мировоззрениям является смертельной угрозой для современного мира, и многоконфессиональная Россия рискует пасть одной из его первых жертв, если учёные, художники и педагоги не смогут эффективно противостоять засилью идеологов и клерикалов.
Разумеется, в приведенном выступлении нет открытий и откровений. Академик говорит о вещах, которые вполне очевидны для образованных людей.
Вот только где они… образованные люди?...
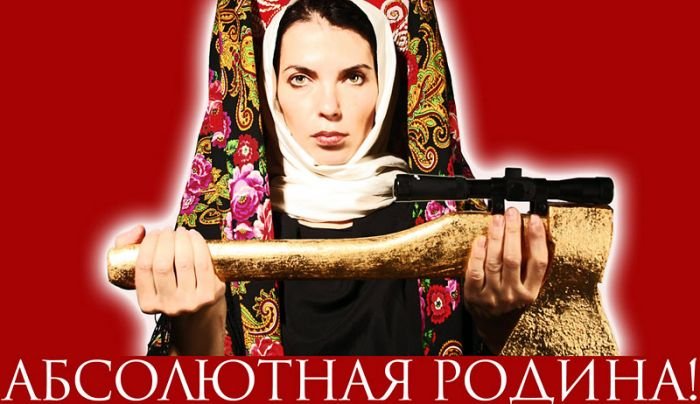





Комментарии
Это уровень за пределами возможностей мифологического сознания.
Говорю так, потому что проверено практикой: если задавать таким товарищам вопросы или попросить их прокомментировать факты, умолкают даже люди в рясах (чуть не написал - люди в штатском). Я задавал некоторым протоиереям вопросы (на сайтах, где они активно выступают; здесь обычно всякие-разные их копируют); не получил ни одного ответа. Хотя, казалось бы вот - покажи святую эрудицию, тем более, что спрашивает человек, слабо разбирающийся в этих вопросах. Ан нет. А их, протоиереев, защитнички типа самарянки говорят, что некогда этим протоиереям опускаться до объяснений с незнающими.
Сейчас просмотрю комментарии.
И - практик. Интересно было бы с ним поговорить.
...Люди уверовавшие, имеющие личный опыт богообщения, понимают, что "образование" означает культивацию в своей личности образа Божия, процесс уподобления, а вовсе не специализацию при помощи одной или нескольких высших школ. Хотя первое не мешает, а даже способствует продуктивности второго, что подтверждается многочисленными примерами эффективного труда учёных-верующих... :-) В этом смысле, можно закончить несколько ВУЗов, и остаться совершенно необразованным человеком. :-( Таким образомъ, образование не может быть ни высшим, ни низшим, но только незавершённым... :-Р
Образование не даёт ума, оно его развивает, вы это так и не поняли!!
Существенно будет уточнение: пусть все, что я выше назвал, встречается Вам В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ. Ведь, полагаю, Вам в общем всё равно, что и как там на сей счет в Японии, Шри-Ланке или Зимбабве, правда? Мне точно все равно!
...Верно, "ум" прежде образованья, это видать по собаке Пвлова и другим хвостатым!.. :-)
(3) - Подхожу к иным вероучениям и практикам изходя из СХОДСТВА а не РАЗНИЦЫ. Если нахожу - радуюсь. Если не нахожу - не печалюсь. Если цитируемый академикъ, ничего не поняв в Писаниях, ищет дальних для низпроверженья, мне достаточно припомнить ближнее, напр. "Утреннее размышление о Божьем Величестве" ак. М. Ломоносова. Что приятнее прочитать? ;-)
И кто осмелится заявить что Ломоносов безбожник и, вместе с тем, не великий учёный?...
Вы с богом общались в уме были?
... :-(( моего интеллехту не хватает понять очёмъ речь...
>Вы с богом общались в уме были? <
...Дык разумеецца! Даже Его ЦУ на бумажку писал, ум штука не надёжная... :-D)))))
В одном из ранних трудов он еще определеннее пишет, что по сравнению с учениями Будды, Махавиры, Конфуция, по сравнению с личными взглядами Сократа христианство и тем более ислам представляют собою очевидную нравственную деградацию.
Любопытно, что регионы мира (мировые цивилизации), где исторически сложились не религии, а учения, которые являются религиями лишь для массового мифилогозированного сознания (это Южноазиатская и Дальневуосточная цивилизации), практически не знали т.н. "религиозных" войн и нетерписости. Ни конфуцианство, ни даосизм, ни бон, ни шиваизм, ни буддизм, ни джайнизм - сами по себе не религии, что явствует из содержания этих учений. И никакого гнусного и жалкого "страха божия", который так по нраву нравственным извращенцам от религии, там вовсе нет. Вишнуизм чаще всего религия, это правда (особенно бесспорно - в варианте кришнаизма), но и в нем людям в голову не приходит бояться светлого Господа Бога Вишну, а также всех загонять в это мировоззрение.
3. О соотношении религии и настоящего мировоззрения все принципиальное, на мой взгляд, уже давно было сказано величайшим андалузским философом ибн Рушдом в его теории двойственной истины.
Религиозные люди прошли только часть пути от животного к человеку. Как выразился великий этолог Конрад Лоренц, (высшие) животные - это эмоциональные люди с очень низким интеллектом. Шахидки, например - это уже от меня.
Далее. Рассуждения о роли личности, возрастающей до достижения критической величины. Хорошо известная вещь. Я её тщательно обсуждал в теме об эволюции демократии. Культура здесь никакой помощи оказать не способна. Это дело политики.
Ещё далее. Осуждение религии как параметра размежевания людей совершенно неправильно! Этот факт следует приветствовать, а не осуждать! Стандартизация подходов означает смерт человечества. Любые факторы, работающие против этого работают на его выживание.
Вывод: заключение об опасности религиозно-идеологического ренессанса неверен. Многоконфессиональность РФ тут никакой роли не играет. С тем же успехом можно искоренять нац. языки. Мало того, религиозность, по сути, не самостоятельная проблема, но форма проблемы истинной, бороться с коей должны все, а не только учёные и художники.
Как сказал Фриц Перлз по поводу нацизма, "если у народа планида такая, то тут уж ничего не сделаешь." И уехал в Южную Африку. И был прав, потому что большинство его коллег-психоаналитиков, не веривших в "планиду," погибло в концлагерях. Или, другими словами - когда лемминги бегут к обрыву, мешать им бесполезно.
И не МОДНО религию хаять, а приходится опять ее разоблачать. Модно стало религиозничать, ханжествовать и переть со своей дурацкой невежливой религией, куда не просили.
Стремление (и осуществление этого стремления) к духовному развитию, которое я всецело поддерживаю и которому вовсе не чужд, совершенно не обязательно связаны с восстановлением мифической связи с мифическим Богом. Человек, к примеру, может заниматься дзадзен (сидячей медитацией) и в этом, в отличие от религиозного тумана, есть прок, смысл, ощутимый прогресс и констатируемые рузультаты духовности. Это только один возможный пример.
Дальше Вы о том, чо мотивация ученого бывает с изъянами - верно, ну и что? Цена ошибки в медицине - погибшие жизни, верно. А цена отсутствия теории и стало быть отсутствия ошибкок- в тысячи раз бОльшее число погибших. Вам фамилии Коха или Флеминга что-то говорят?
Иисус призывал таки к насилию, бывало такое у него. Цитаты насчет меча и разделения людей поищите сами. Не люблю евангелия, не стану лишний раз открывать текст. Вот Будда никогда не призывал к насилию, как и Сократ, Конфуций или Махавира. Иисус - весьма сомнительный и посредственный авторитет в нравственности, в отличие от перечисленных мною величайших представителей человечества.
Людей болящих ВЫ жалеете, детей любите, это прекрасно. Лечите их и не высказывайтесь о том, в чем ничегошеньки не смыслите. И не путайте чувства с знанием дела.
О медитации Вы знаете только то, что слово такое есть. Рановато с Вашей стороны давать рекомендации.
Вы хорошая женщина, это видно. И Вы наверняка занимаетесь своим делом. Но ясности ума Вам остро недостает. Осознайте это, пожалуйста. Не стоит спорить со мною, мне присуща редкая ясность.
Хотите у меня чему-то заочно поучиться - дело другое.
Иными словами, кризис гомеостаза становится возможен, если человек не будет выполнять первое и более старое, чем это новейшее мнение американского программиста Б. Джоя, - если человек будет уклоняться от вечного требования дельфийского оракула о познании им самого себя.
Взятое само по себе, вне требований того или иного оперативного моментам при той или мной стратегической манипуляции, это якобы дурное свойство "радоваться смерти", "предвкушать вознаграждение" и т.п. не есть ни дурное, ни хорошее. Если бы за этим возвышенным чувством не стояло бы толики реальности, то любое применение его в практической жизни, будь оно хоть добровольным, хоть манипулятивным, не имело бы никакого смысла. ... Как впрочем совершенно никакого смысла тогда не имела бы и сама эта, хоть отдельно индивидуальная, хоть обще коллективная человеческая жизнь.
Иными словами, кризис гомеостаза становится возможен, если человек не будет выполнять первое и более старое, чем это новейшее мнение американского программиста Б. Джоя, - если человек будет уклоняться от вечного требования дельфийского оракула о познании им самого себя.
Взятое само по себе, вне требований того или иного "оперативного" момента при той или мной "стратегической" манипуляции, это якобы "дурное" свойство "радоваться смерти", "предвкушать вознаграждение" и т.п. не есть ни дурное, ни хорошее. Если бы за этим чувством не стояло бы толики реальности, то любое применение его в практической жизни, будь оно хоть добровольным, хоть манипулятивным, не имело бы никакого смысла. Как впрочем, совершенно никакого смысла тогда не имела бы и сама эта, хоть отдельно взятая - индивидуальная, хоть общественная - коллективная человеческая жизнь. "Комплекс ощущений" их всех был бы равен 0
__________________________
Это - в одном Евангелии. А в другом - "Кто не против меня - тот со мной".
Какой формулой пользоваться и какую считать истинной - каждый христианин решает сам. Мне вторая больше нравится. :)
(с)
Скорее - политически обусловленными. Ибо так называемая "историчность", имея права на существование в наших представлениях о субъектно-объектной реальности как нечто квазиреальное (нечто в реальности, чего мы еще не знаем, но взятое с учетом того, что нам уже известно) не имеет своей причиною только лишь одно, так сказать "человеческое", (а тем более - "слишком человеческое") или чисто субъективное, но эта квазиреальность, что столь смело и пытается выразить всем известный термин "историчность", сама же зависит от некоторых условий, так называемой "среды обитания" - тех, которые человек изменять еще не умеет или уже никогда не будет..
Политическая, экономическая и иные востребованности, являются составными частями этого нечто, ибо ни одна из них не учитывает всей массы независимых от человеческой воли обстоятельств, условий и прочего.
Кроме того, все "противленческие" учения никогда не были самостоятельными, первичными, всегда являясь лишь искаженными обрывками того первого, "утерянного слова", что никогда не было только словом - и потому никогда не бывало утерянным.
А мне - ни одна из них.. В смысле "пользоваться"...
А так, "на слух", они все одинаково хороши. Или плохи. В зависимости от результатов "пользования"....
;-))))))))))))))))))))))))))))))
Что таких всесильных индивидов на свете мало - это верно. В остальном ты ошибаешься... Видимо, еще не воспринял "ВСЕЙ совокупности"... ;-)))))))))))))))))
Скажи это судостроителям. И они тебя не поймут. Ибо не каждый ими построенный пароход тонет в море. Тонул бы каждый, если бы все они ошибались - хоть "каждый по своему", хоть "все как один". Ферштейн? ;-)))
Эдак всякое изделие должно быть идеалом и совершенством! Надо же чё заумь в формулировках с людьми-то вытворяет!
И ни одна мысль при этом не шелохнётся! А надо бы думать, потому как тгда легко бы было бы догадаться, что есть ошибки критические и есть нейтральные, слабо или вовсе не влияющие на конечный результат. Но, я понимаю, для таких мыслей придётся отвлечься от плетения заумностей. А это никак неприемлимо!
Ну, ка применим "шелохнутую мысль" к "идеальным" пароходам....
Че будем иметь в итоге, ежели, к примеру, на каждые сто некритических пароходных узлов, деталей и прочего придется по сто некритических ошибок всех тех, кто их выдумывал, проектировал, строил?....
Ну, дык раз уж все, так все! Пусть также "не критически", но по сто раз (примерно столько раз все и каждый прикладываются к своему пароходному творению/) ошибутся все и каждый, начиная от отцов-создателей, продолжаясь в чертежниках-проектировщиках и кончая монтажниками и прочими сборщиками и испытателями. Я посмотрел, как бы та уродина посмела бы не пустить пузыри недалеко от места сборки, после схода на воду!.... ;)))))))))
Посмотритесь в зеркало. При каждом копировании ДНК статистически происходят ошибки. Поскольку в вас какое-то совершенно астрономическое количество клеток и, следовательно, ДНК, то при вероятности ошибки, определяемой стандартным приближением как 1 ошибка на 10000000 копирований, в вас должно присутствовать как минимум несколько миллионов ошибок. Они не критичны, что позволяет вам базгать по клавишам, замусоривая информационное пространство.
Вот и я о том же.
Если б при каждом копировании чертежа ПЛ-613 - старой, доброй дизельной п-лодки, состоящей из тысяч узлов, которые в свою очередь состоят из сотен деталей - одни лишь чертежники и копировщики (про других уже не говорю) допускали бы по одной ошибке, то... умножьте число таковых лиц /(напомню, изначально тут было сказано, что "все ошибаются, каждый по своему"), наличествующих в том конструкторском бюро на число неверно прочерченных этой сотней человек узлов, деталей... Получится... Впрочем, в реале эта лодка даже не будет построена, ибо главного инженера и всю команду "создателей" просто разгонят в лучшем случае. В худшем - их будут денно и нощно опрашивать другие спецы, пока не выяснят, что в этом непреднамеренном саботаже, приведшем к срыву крупного госзаказа виноват некий "виртуальный творец виртуальных идей" давно известный в неоопределенных кругах под ником "Старый Соболь".... :))))))))
Однако, запредельно смело тот сравнил элохимовский хрен с чертежным пальцем - якобы некритичный кирпич ДНК человека с якобы некритичным сварными швом прочного корпуса ПЛ!
;(((((((((
ДНК - не подводная лодка. Если бы она воспроизводилась точно, нас с Вами бы не было. Да и самой ДНК не было бы.
Не факт.
"ДНК - не подводная лодка. Если бы она воспроизводилась точно, нас с Вами бы не было. Да и самой ДНК не было бы".
Не факт.
Только у демагогов одновременно бывает "Бог создающий мир", и "все остальное"!
Я отчего-то полагал, то такие антифилософские концепции умерли вместе с их последними адептами, где-то на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Однако живы курилки! Очень рад наяву.а не во сне попасть в этот "Парк Юрского периода!"!
Немного отвлекись от темы... .
Природа в отличие от ее единственного вольного деятеля, человека, не умеет ошибаться и даже не знает что это такое "ошибка /Природы"!
Все, что есть у нее, в ней или посредством ее - все есть лишь один непрерывный (или же много прерывистых, не суть пока важно( безошибочный набор причин и следствий. Ничего иного в Природе нет - никаких "грехов" и "заслуг", никакого "добра" и "зла" Все вышеперечисленное в кавычках появляется в ней только с появлением человека.
И лишь с этого торжественного/ момента все это, "человеческое", может приобретать и иметь некий смысл и некую реальность только для него одного. Природа как всегда была, так и остается вечно слепой ко всему человеческому, никогда не замечая ни появления этого "творца", ни его исчезн
;))))))))))))))))))
Все остальное - "как назовёшь, так и поплывёт".
Природа не имеет ни "ошибок", ни "удач", она просто есть - конечно. Но общался я здесь не с Природой, а с Вами. Перечитаете свои собственные слова?
Долгой жизни, г-н Бронтозавр Философьевич!
А я когда-то был очарован тихим Мандевилем...
Не сомневаюсь. И у некоторых из них вы неплохо научились вот этому старому как мир трюку. И не учившийся вообще или же учившийся плохо человек теперь, после трюка, легко или не очень легко, но с большей вероятностью сделает вывод, что ваш оппонент, то бишь я. Пкул, не уважает ученых.
"Надо постараться понять, на какой базе знаний могли делать свои выводы они". (с)
Весь этот мир и есть такая "база". Так что, по большому счету, надо бы стараться не столько под других ученых копать, сколько познавать вот эту "базу". А там, глядишь, и лучше поймешь других копателей, искателей истины. Как наверняка лучше поймешь и тех "ученых", кто вот эту "базу" старались укрыть от взоров людей и подстроить то, что от нее осталось под свои, не всегда чисто научные интересы.
"Долгой жизни, г-н Бронтозавр Философьевич!" (с)
Спасибо коли не шутите. Александр!
Теперь я могу гордится этим прозвищем как тот краснокожий индеец, не так ли? ;))))))))))))
Но по большому счёту для вашего собеседника это всё равно. Он просто разнообразно и замысловато выпендривается.
А Вы - наглец! Если для Вас "весь этот мир" - база знаний, то Вы Господом Богом должны быть. Лучше бы назвали "материалом для исследований".
Э... Обид и отрицательных эмоций между нами - нет? За себя - ручаюсь... ?
А зачем задумываться над бесполезным?
Он выпендривается, но и я не лучше.
Да и вообще. Задумываться полезно. Даже над бесполезным. Тем более, никто не знает, где проходит его граница.
Но в некоторых частных случаях решения просты и очевидны.
Если будете играть в орлянку, и 7 раз подряд результат будет не в Вашу пользу - смело бейте морду или смело убегайте (зависит от Ваших возможностей). Конечно, есть вероятность, что Вы будете неправы, но полезнее для себя такой вероятностью пренебречь.
Ну, отчасти, а быть может и полностью, но я пожалуй соглашусь с вашим "наглецом". ;))
А вот в отношение "Бога" воздержусь. Пока не могу ничего такого....
Впрочем, вру.. В микромасштабах иногда получалось. Помню, давно и странно болевшую жену вылечил за пять минут от того, не знаю чего. Причем, не просто все у нее прошло, но как бы в трубу вылетело напрочь так, что она не помнит до сих пор, что с ней было, как именно и что болело... Впрочем, тут я снова вру, ибо с тех пор я никогда ни о чем ее не спрашивал в связи.
Но я точно не совру, если скажу, что в этих претензиях на. лечение в пять минут без диагноза и лекарств виновата одна малоизвестная философия, впервые обнародованная аккурат в том самом 19-м веке... Так что, за это прозвище "Бронтозавр Философьевич" мое искреннее "Спасибо"!
А чтобы вы смогли мое "спасибо" в свой " карман" положить, то вот здесь - еще вчера, загодя предвидя - я обозначил мою ("лечебно-наглую") философию:
http://www.gidepark.ru/post/article/index/user-id/2909753688/id/88727
Наслаждайтесь смело своей проницательность.Вы - заслужили!
Очень здравая мысль! Теперь добавьте сюда время образования нашего существования равное "перевернутой восьмерке", - и вы получите следующую половинку к вашей, хотя еще и "микро", но несомненной истине.
Ну, а если у вас возникнет мнимая проблема в связи с тем "очевидным" только для трубы телескопа "фактом", что якобы все это "время образования нас" прежде уже было занято на "образованием всея Вселенной без нас", то вы просто поделите "перевернутую восьмерку" пополам.. - И времени у вас на все хватит! От их всех не убудет, не так ли?
Впрочем, математик тут бы и не спорил! ;)))))
P.S. Если ж Вас после всего, что возможно последует из "вашей" мироистины вдруг назовут "наглецом", то.Вы уже знаете, где искать основу для наших с вами ответов. ;))))
Пытаюсь понять, что такое деление числа на перевёрнутую восьмёрку... Другие - тоже этим развлекаются!
П.С. Дай Бог, чтобы "наглецом", а то и "убогим". Чего только не бывает...
Вы невнимательны. Я сказал о делении
"ее" на число "2", а не наоборот. Подскажу уж...
Если обычную восьмерку поделить, например, на обычную двойку, то получим - сами знаете - половину от первоначальной восьмерки.
А вот, если эту, "перевернутую" (на 90 град. в любую сторону от вертикали), то все равно получим в итоге ту же "перевернутую" и при этом ничуть не потерявшую от своей первоначальной величины цифирь. Просто и тогда, и сейчас у меня под рукой не было и нет таблицы известных клавиатурных кодов чтоб вы воочию увидели этот значек.
Зато я вспомнил тогда про неких простых, но все же ученых людей, которые еще не перевелись в этой стране и сказал, намекая на этот особый значек, что "математик тут бы и не спорил"
2. "длинно не умею".. (с)
Если имеете ввиду письмо 57, то не я его писал в сентябре 1882-го.
Так долго я не живу... ;))))
Или ноль, или одна бесконечность... Уроборус, короче.
Лучше подскажи, у кого я сейчас сотню займу - справа или слева?
Нет, я имел в в виду третий комментарий на странице 714... Ищите теперь сами :)!
В общем... Чао бомбино. Сорри!
Наша "философия" не про вас. Слишком опасна она для азартных, легковесных и ленивых натур. Печальный пример Германа из "Пиковой дамы" изучите. К тому же я здоровый муж, а не дохлая старуха-графиня.
И стреляю обычно первым, не назначая последних карт. Первые карты вы впрочем видели. Как и то видели, что пострелять люблю.
Но это не "выпендреж", а обычная для моей "национальности" - и особенная для "национальности" вашей - Охота...
На всяких "Тиранозавров Софистовичей"!!!.. . ;))))))))))))
Точно ведь: азартен, но не играю...
Ну-ну...
Если сев со мною за этот столик и сделав несколько ходов, вы теперь сказали "Пас", то разве это значит, что наша игра не состоялась? ...
;))))))))))))))))))))))
Нравственность создала религию, а вовсе не наоборот. Как инструмент. Для пятилетнего ребенка чистить зубы - вроде религиозного ритуала, он еще не ЗНАЕТ про микробов, но он в них ВЕРИТ. Что-то в этом роде и пришлось придумать тогдашним санитарам душ. Те, кто вырос - "образованные люди" - не нуждаются в примитивах типа "рай-ад" и т.д. Так религия и не для них, а для тех, кто зубы чистить не хочет...
...Ученые сегодня - ничто против засилья идеологов, вооруженных телевидением. Лично я ничего не имею против, если "носители христианских ценностей" встанут в один ряд с учеными, художниками и педагогами на
пути ТЬМЫ, льющейся с экрана... Те ценности не раз спасали Европу, не будут лишними и сейчас, - ведь те, кто противостоит христианской Европе, отнюдь не против религиозной подпитки своих сторонников.
На самом деле "надо чистить зубы пастой вовсе не есть абсолютно доказанный факт реальной Природы. Мао Дзе Дун не чистил зубы. Вообще.
И они у него никогда не болели. Кстати.
Правда, изо рта великого кормчего нередко шел неприятный запах.
Так может быть, стоит придумать такое "учение", что изменит саму установку человека на так называемые "неприятные запахи"? А там глядишь - и по ходу придумывания "учения" обнаружится, что сама "неприятность запаха" есть закономерное следствие неправильного, чрезмерного питания, особенно - мясоедения. А еще позже, по ходу уточнения параметров "неправильного питания" может открыться прямая связь между хорошим запахом "тела" и хорошим состоянием "духа". И т.д.
Потому некто не должен так долго ждать этих "открытий" и "учений", ибо сам может устранить "неприятный запах" при помощи собственных изысканий, ведущих к прекрасным результатам безо всякой "зубной пасты", но одним лишь:познанием и становлением себя частью той Природы, что всегда пахнет хорошо ака истинно...
Это естественная работа микробов. Ребенок должен знать это, а не отрицать. Осталось этому ребенку будущего, понимающему все известные процессы верно, создать такую "зубную пасту", при которой микробь не убивались, но попросту работали ли бы без запаха, а возможно, и с заданным наперед набором запахов.. Думаю, что и эта нанотехнология вполне естественна и не за далекими горами, если только верно думающий и поступающий согласно этому верному разумению человек продолжит познавать себя и мир в себе и вокруг без того разделения, которого пока еще больше в неразумной голове этого человека, чем в самом мире. Последнее есть во многом следствие первого: "Каков поп, таков и приход" (с).
Нравственность постоянно находится в движении, формировании. Это социальный регулятор. Религиозное сознание - одна из стадий этого процесса. Это давно уже изжитая (исчерпавшая себя) форма сознания.
Совесть существует так же объективно, как Солнечная система. И как существование Солнечной системы человек открывает себя на уроках астронимии, существование совести должно открываться каждому на уроке психологии.
Увы! Ни астрономии, ни психологии нет в современной системе среднего образования. Зато есть "носители христианских ценностей", которые лезут из всех щелей.
"Зато есть "носители христианских ценностей", которые лезут из всех щелей. " (с)
Кстати, граф Толстой тоже ведь был, если и не самым ярким носителей христианских ценностей - судя по некоторым грешным делам, но зато судя по его перу - одним из ярких распространителей не догматического христианства наш граф был точно.
То, что его тогда не поняли, а предали анафеме - обычное дело для церковной бюрократии всех веков, - с тех самых пор, как еще одного яркого распространителя подобных не фарисейских ценностей, вроде бы распяли, сделав постепенно одного из сотен подобных ему мучеников за непреходящие общечеловеческие ценности их единственным творцом или, точнее, сотворцом.
Ну, точно как с Пугачевой получилось . "Примадонна должна быть только одна на весь СССР", -решили в конце восьмидесятых акулы зарождающегося шоу-бизнеса.
И всех остальных талантливых певиц - Зарубину, Алциферову и т.д. - загнал на задворки Истории. Только-что по НТВ фильм о том прошел.
Деньги, а не злой умысел тогда и сейчас имел место быть. "Песня" и "Истина" - для дельцов дело второе. Только лишь на одной комбинации "спортлото" можно снять весь куш!
Вот с этим я еще соглашусь. Но, если теперь попытаться доказать это неистребимое в веках фарисейство - такого смельчака снова распнут как пить дать!
В данном случае - нет.
Во-первых, "переть изо всех щелей" могут только паразиты.
Во-вторых, истинные носители редко жалуются на последних и обычно умирают молча, когда изредка бывают насмерть искусаны ими.
В третьих, истинные никогда не будут кичиться перед кем бы то ни было, а тем более перед себе подобными своими формальными отличиями, внешними особенностями и прочими "конфессиональными преимуществами", ибо таковых для них по сути не существует и истина у всех - одна.
"По закону техно-гуманитарного баланса, внутренняя устойчивость социальной системы снижается с ростом её зависимости от индивидуальных действий, если культура не успеет совершенствовать механизмы внешнего и внутреннего контроля соразмерно ускоряющемуся развитию технологий".
Но тогда получается, что обществу нужно оградить себя от индивидуальных действий отдельный людей, а лучше бы их (инд. действий) вообще не было, а все действия были бы в рамках движения общества в целом. Но человеку свойственно развиваться, и индивидуальное развитие должно быть (как и совместное с социумом, впрочем).
Либо общество заинтересовано создавать контроль таких действий, чем быстрее, тем лучше.
А разве каждое конкретное общество не есть достаточно объективный показатель и даже наглядный результат этого "индивидуального контроля"?.
Разве правильное целое не есть сумма верных его частей, а равно и наоборот, когда соринка в глазу одного совершенно бесконтрольного диктатора может отравить жизнь миллионнвм сограждан - целому обществу? А потому общественный контроль над индивидами должен быть дифференцированным в том смысле. что рвущиеся к власти подвергаются жесточайшему просвечиванию на предмет своих истинных мотиваций "стать властелином" или хотя бы инспектором /ДПС... Степень контроля должна быть прямо пропорционально той общественной ступени, на которую претендует индивидуум.. Так в принципе - и не столько по факту, сколько по теории - оно и есть в РФ. и других странах. Во всяком случае приход на высшие посты откровенных параноиков общественно-государственным контролем уже исключен. И даже развивающиеся страны и страны третьего мира все менее подвержены этой "наполеоновской" опасности.
Верно и "обратное правило", которое виде вопроса звучит так:
Как сделать общество не просто единым, но тождественным тому, что называется его высшей властью?
Или:
Как Демократию объединить с Автократией?
Или, вопрошая иными словами:
Как повторить Викторианскую Эпоху, продлив ее надолго и для всех без различия вероисповеданий и цвета кожи?
Я знаю теоретический ответ на этот ВОПРОС. И многие великие Президенты его знали и знают. Осталось остальным не мешать, но помогать осуществляться тому, что медленно, но верно становится быть...
тут нужно понимать какой меч и какой удар.Так же стоит вспомнить что с приходом Христа Иисуса появилась новая заповедь-любите друг друга.И друзей и врагов своих...
Умом бога не постичь....Академики испытания делали на собаке,насильно подвергая ее мучениям из вне.Током....Шибаните себя током-у вас не только слюни и моча потекет и вы радостно начнете кричать-что нибудь....У Бога ничего не бывает во вред,как это делали ученые-все на пользу для вашего совершенствования...Секрет христиан-в любви.И сила их в немощи их.....Это нужно понимать.
«Теперь… стала понятна стойкость христианских мучеников!»
Ничего он не понял.
Наталья. Вы ведь тоже еще не все поняли... "Библия" и почти все известные цитаты из нее невозможно трактовать в рамках ее самой. Аллегории и метафоры полностью объясняются немного в других местах. Например, в той же "Разоблаченной \Исиде", а тем более - в "Тайной Доктрине" пера мадам Блаватской дается менее аллегоричное, более реальное - не метафизическое даже - описание обустройства как этого земного мира, так и Природы вообще. Основой смысл и суть этого более современного, более подходящего к настоящему момент описания состоит в том, что неодушевленной природы в извечной Природе по крайней мере на некоторый период не существует. Эти периоды называются манвантарами.
Жизнь разной степени разумности расцветает именно в эти периоды, пока не достигает того, относительно максимального расцвета, который в свою очередь снова "падает" в следующий мир,продолжая начатое, но еще не оконченное, ибо не полностью совершенное...
Каждый такой падающе-восходящий процесс имеет свои особые перерывы, называемые пралайями, которые вовсе не есть смерть жизни, но только необходимая остановка ее, перегруппировка жизненных сил во всех потенциях..
Вряд ли этой истины не было до прихода этого, "единственного сына единственного бога на единственной земле"... ;))
Вы разве еще ни разу не допускали - хотя бы в своих мыслях -хотя бы саму возможность того, что некогда и по некоторым, в том числе и не очень симпатичным причинам от большинства людей, особенно от внешне цивилизованных но внутренне диких представителей западного "римского мира" попросту скрыли или же особым образом исказили многое из того, что было известно, пусть не всему, но огромному большинству людей мира восточного - и задолго до того, как состоялось это якобы первое, но уж явно не последнее явление святого бога на грешной земле?..
Вот так просто из неточного слова и подзабытого, искаженного знания "рождаются" и продолжают быть нездоровые сенсации века сего. Если хотите знать, а не гадать, то ищите и учите матчасть от "Библии", а не то, что от нее - от матчасти, а не от "Библии" - осталось.
Впрочем, и это дело хозяйское. Правда, если нет способности и желания, но есть только что-то одно из двух, то даже начинать не стоит..
Просто каждый ее понимает в меру своих способностей.))
Более чем оно уже есть, "Библию" невозможно исказить!!!
Dixit
Но там (в цитате) не сказано, что имеются в виду претендующие на власть. Говорится об "индивидуальных действиях", какими бы они ни были. Если человек хочет просто самосовершенствоваться?
Его действия (хотя бы чтение различных сайтов в Интернете и следование методикам) также могут воздействовать на общество. Ибо потом, прочитав, человек выходит так или иначе в социум и живет сообразно прочитанному, если оно им воспринято.
Полюбопытствуйте, я там порассуждал как раз на эту тему.
Ну, так я и поправил ту цитату, упомянув всех индивидов, а не только то большинство, что зовется "электоратом".
2. "Если человек хочет просто самосовершенствоваться? (с)
Просто совершенствоваться можно. Можно и не просто, а например уехав в горы, или в лес...
Но пока индивид окончательно не вышел за пределы того общества, которое дает ему свет и кров, он не вправе игнорировать все это общество, хотя бы при этом он и игнорировал бы своего алкоголика-соседа.
К тому же, роль личности в отношение действенного влияния ее на все или на часть всего общество всегда возрастает прямо пропорционально той конкретной ступени, которую данный "правящий" индивид в этом правовом обществе занимает или на которую он реально претендует. Потому и контроль потенциально могущих "править" индивидов имеет некоторый приоритет над потенциально не могущими этого. Ведь именно такие могут организовать огромную толпу немогущих, организовав ее или даже все общество как на правое дело/, так и на не правое... Фертшейн?... ;)
львиная доля- люди неверующие.
условно допуская у них глубокую веру видно что бы они такаво бы не совершили.
Самое важное - в последней фразе/вопросе.
А как Вы сами ответите?
Это - воззвание!
Но, позвольте ещё один вопрос?
О заглавной статье.
Самое важное - в последней фразе/вопросе/воззвании.
А как бы Вы сами ответили?
Где Вы, образованные люди?
А что такое - образованные люди?
Вот замечательная тема для опроса...
Давайте запустим?
В ракурсе тематики темы, можно ответить на этот вопрос свидетельствои Гиббона из его "Закат и падение Римской империи":
1. "Публичное отправление религиозных обязанностей было возложено лишь на установленных церковнодолжностных лиц, на епископов и пресвитеров, и оба эти названия, по своему первоначальному происхождению, как кажется, обозначали одну и ту же должность, и один и тот же разряд личностей. Название пресвитеров обозначало их возраст или, скорее, их степенность и мудрость. Титул епископа обозначал надзор над верованиями и нравами христиан, вверенных его пасторскому попечению. Соразмерно с числом верующих, более или менее значительное число таких епископальных пресвитеров руководило каждой зародившейся конгрегацией с равною властью и с общего согласия" [*1].
(продолжение следует.)
[*1] Гиббон Э. Указ. Соч. Т. 2. стр. 50.
[*2] Там же. стр. 51.
[*3] Там же. стр. 52 53.
[*4] Там же. стр. 53 54.
Но статья написана "под атеиста". Преподносится верховенство атеистического мировоззрения с нравственной приправой над религиозным, называя это громкими словами - сознание и совесть. Как любят некоторые употреблять громкие слова, как будто они единственные, кто знает их правильное значение. Автор понял для себя только одну форму мировоззрения - атеизм. Истинно религиозная форма является гораздо более редкой формой мировоззрения и непросто распознаётся. Тем более с позиции атеизма. :)) И уж тем более не стоит её путать с проявлением фобии у людей. Эта форма сложна и стоит на ступень выше атеистического восприятия реальности. На верхушке же стоит более сложная форма, которую можно условно назвать как Разум. Это слово нейтрально, потому как невозможно дать какую либо характеристику в духе более низших ступеней развития. Именно поэтому упомянутый автором мыслитель Х века ат-Таухиди привёл такую формулировку про разум.
Статья поверхностна.