С этой целью обратимся к статье «Новое лицо Красной Армии», опубликованной в журнале «Верфронт» в 1937 году, вскоре после описываемых нами событий.
Предварим статью только одним примечанием: в Германии определенные круги тогда стали считать, что в РККА действительно существовал заговор во главе с Тухачевским, и что в результате уничтожения заговорщиков боевая мощь Красной Армии уменьшилась – не в пример руководителям военного ведомства Ворошилову и Гамарнику, которые на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) утверждали обратное.
«…Весной 1937 г. фактически все высшие командные должности в Красной Армии (за исключением Народного Комиссара Обороны) были заняты специалистами и уровень образования офицеров был значительно поднят. Один Ворошилов остался во главе армии в качестве «парадного генерала».
Это сознательное выхолащивание политики из армии в пользу военной квалификации в руководстве должно было (как этого небезосновательно опасались руководящие круги) натолкнуться на сопротивление радикальных элементов, а также на сопротивление тех, которые в переходе к строго дисциплинированной армии усматривали признак контрреволюции по образцу Наполеона.
Во главе этих лиц еще в 1935 г. встал Лазарь Каганович, и этим была предопределена судьба армии и ее руководства. Этому человеку, огромное влияние которого на Сталина всем известно и которому Сталин беспредельно доверяет, удалось понемногу убедить диктатора, что такая не большевистская армия представляет огромную опасность для большевизма.
Когда после этого новый руководитель ОГПУ Ежов сообщил о раскрытии широкоразветвленной контрреволюционной организации с наиболее способными руководителями во главе. Сталин был окончательно убежден и завоеван. После суда, состоявшегося 11 июня. Сталин распорядился на следующий день расстрелять восемь лучших командиров. Так закончился краткий период реорганизации военного командования Красной Армии.
…Военная квалификация была принесена в жертву политике и безопасности большевистской системы. Пост расстрелянного маршала Тухачевского занял бывший до этого времени начальник генштаба Красной Армии Егоров, бесцветная личность.
Сын крестьянина, он упорным трудом выдвинулся вперед, но даже в отдаленной степени он не может заменить Тухачевского, хотя наряду с Шапошниковым, он бесспорно является самым способным в военном руководстве РККА. Б.М. Шапошников… занял место Егорова в качестве начальника Генштаба Красной Армии. Шапошников еще в довоенное время считался посредственностью, и он ни в какой мере не выдвинулся и во время войны… Начальником Политического управления Красной Армии на место застрелившегося перед своим арестом Гамарника был назначен Смирнов, который, по-видимому, после больших надежд, возлагавшихся на него сначала, после нескольких недель впал в немилость…
Также и третий заместитель Ворошилова (по должности начальника Морских Сил РККА.) флагман 1-го ранга (правильно: флагман флота 1-го ранга.) Орлов был смещен со своего поста. Новым командующим Красным Флотом назначен флагман Михаил Владимирович Викторов, который до этого времени командовал морскими силами на Дальнем Востоке…
Командующий ВВС Алкснис, наряду с Шапошниковым и Егоровым, считается одним из самых способных красных командиров… Особенно катастрофичным оказалось назначение новых командующих военными округами… После расстрела 12 июня фактически не осталось руководителей.
Ленинградский военный округ, также, относящийся к наиболее важным округам, получил пресловутый матрос Павел Ефимович Дыбенко, также один из героев гражданской войны, особенно известный в то время своими беспощадными грабежами, с военной точки зрения совершенный нуль, но с политической точки зрения считающийся особенно надежным.
…Киевский военный округ принял бывший столяр Иван Федорович Федько, командарм 2-го ранга. Он также считается одним из наименее интеллигентных, но наиболее надежных военных руководителей…
Белорусский военный округ, которым командовал весьма одаренный Уборевич, также расстрелянный 12 июня, получил бывший рабочий Иван Панфилович Белов. Наконец, говорят, что кроме Орлова исчез в забвении командующий Балтийским флотом Муклевич … Таким образом, руководство Красной Армии получило совершенно новое лицо.
В противовес краткой эре Тухачевского снова выступили на первый план парадные генералы и герои гражданской войны. Вместе.с этим путем восстановления военных советов и значительного усиления политического аппарата восстановлен дуализм, устраненный в интересах боеспособности армии расстрелянным маршалом Тухачевским»

По мнению немецкого журнала «Верфронт» за спиной ликвидаторов военного руководства стоял Лазарь Каганович
Многие влиятельные крути и лица на Западе действительно считали в 20 х и 30 х годах М.Н. Тухачевского, а не Ворошилова создателем Красной Армии. И говорили они об этом не только в период пребывания Тухачевского в зените славы и на вершине власти, но и после его трагического конца. Вот что писала газета «Дейче Вер» в номере от 24 июня 1937 года, то есть спустя двенадцать дней после гибели маршала:
«Его вошедшее в поговорку счастье в гражданской войне (он разбил, между прочим, наголову Деникина), его молниеносное наступление на Польшу и успешное жестокое подавление большого крестьянского восстания в Центральной России в 1921 году – все это уже тогда дало ему прозвище «Красного Наполеона»…
Хотя полковник Каменев, как правая рука Троцкого и заложил фундамент Красной Армии, тем не менее Михаила Николаевича Тухачевского следует признать единственным создателем Красной Армии в ее теперешней форме. Тем, что она является теперь такой, Сталин обязан одному лишь Тухачевскому…
…В первых числах мая были собраны «доказательства» о мнимой подготовке переворота силами Красной Армии. Обвинения против Тухачевского были собраны полностью и объявлены в присутствии всех Народным комиссаром: Тухачевский готовил переворот для того, чтобы объявить национальную военную диктатуру во главе с самим собой…
Тухачевский, бесспорно, был самым выдающимся из всех красных командиров, и его нельзя заменить. История когда-нибудь скажет нам, какую роль он играл в действительности в деле строительства этой армии… Ни один человек никогда не узнает, что происходило на процессе… Тухачевский хотел быть «русским Наполеоном», который, однако, слишком рано раскрыл карты, либо же, как всегда, его предали в последний момент. Каганович-Сталин являются снова господами в стране…»
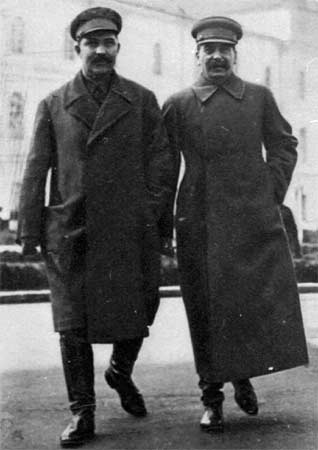
Газета «Дейче Вер» считала Тухачевскго выдающимся военным командиром, но его загубил правящий тандем Сталин-Каганович
|
Вот отрывоки из дневников руководителя управления пропаганды Рейха Йозефа Геббельса: Запись в дневнике от 15 июня 1937 года.
«Кровавые приговоры в Москве ужасают. Там уже ничего не разберешь. Там все больны. Это единственное объяснение происходящего там. Огромное потрясение во всем мире».
На следующий день, 16 июня. «Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире. Говорят об очень серьезном кризисе большевизма... Россия терпелива».
Днем позже. 17 июня. «Пляски смерти в Москве возбуждают отвращение и негодование. Опубликованный список расстрелянных за короткое время показывает всю глубину болезни».
1 июля. «Фюрер разговаривал с нашим послом в Москве Шуленбургом. Шуленбург дает мрачную картину России. Террор, убийства... И это государство трудящихся! Фюрер смеялся от всего сердца...»
|
|
Эти строки он писал в июне 1937 года. А вот что Геббельс будет писать в 1945 году.
Запись 5 марта:
"Фюрер прав, говоря, что... Сталин своевременно провел эту реформу и поэтому пользуется сейчас ее выгодами. Если такая реформа будет навязана нам сегодня нашими поражениями, то для окончательного успеха она слишком запоздала".
Под реформой и Геббельс, и Гитлер понимают очищение армии путем расстрелов.
28 марта:
"Я подробно излагаю фюреру мысль о том, что в 1934 году мы, к сожалению, упустили из виду необходимость реформирования Вермахта, хотя для этого у нас была возможность. То, что хотел Рем, было, по существу, правильно, разве что нельзя было допустить, чтобы это делал гомосексуалист и анархист. Был бы Рем психически нормальным человеком и цельной натурой, вероятно, 30 июня были бы расстреляны не несколько сотен офицеров СА, а несколько сотен генералов.
На всем этом лежит печать глубокой трагедии, последствия которой мы ощущаем и сегодня. Тогда как раз был подходящий момент для революционизирования Рейхсвера. Этот момент изза определенного стечения обстоятельств не был использован фюрером. И вопрос сейчас в том, сумеем ли мы вообще наверстать то, что было нами тогда упущено".

В 1937 году Гитлер и Геббельс будут высмеивать процессы над военными РККА, а в 1945 году они признают что чистки в РККА сделали красную армию сильнее
Понимание того что случилось в 1937 году доходило до них слишком долго
В публикациях на тему о «заговоре в Красной Армии» много внимания уделяется личности президента Чехословакии Эдуарда Бенеша и его «вклада» в разоблачение «главного заговорщика» – маршала Тухачевского.
Приводимая ниже выдержка из беседы с Бенешем советского посла в Праге С.С. Александровского, состоявшейся 4 июля 1937 года, показывает, что в странах ближнего зарубежья с большим вниманием следили за развитием событий в Советском Союзе, делая из этого соответствующие прогнозы о путях дальнейшего продвижения отношений между своей страной и СССР с известной поправкой на особенности сталинского режима.
«Бенеш… все время говорил сам почти исключительно на тему о внутренних процессах, происходящих в СССР. Он начал разговор вопросом, что я думаю о значении процесса над Тухачевским и компанией, но после нескольких довольно общих фраз с моей стороны прервал заявлением, что он хочет обстоятельно изложить мне свое понимание для того, чтобы мне было ясно, какими мотивами он руководится в своей политике по отношению к СССР.
В качестве первой предпосылки ко всему дальнейшему разговору, Бенеш выставил утверждение, что так называемые события в СССР ничуть его не удивили и совершенно не испугали, ибо он давно их ожидал. Он почти не сомневался и в том, что победителем окажется «режим Сталина»…. Он приветствует эту победу и расценивает ее как укрепление мощи СССР…»
Далее Бенеш заявил, что он мыслит себе опору именно на СССР сталинского типа, а не на демократическую Россию, как в этом его подозревали в Москве. И что он, начиная с 1932 года, внимательно следит за решительной схваткой между сталинской линией и линией «радикальных революционеров», а посему для него не явились неожиданностью последние московские процессы, включая и процесс Тухачевского.
Президент Чехословакии особо подчеркнул, что, по его убеждению, в этих процессах, особенно в процессе Тухачевского, дело шло вовсе не о шпионах и диверсиях, а о прямой и ясной заговорщической деятельности с целью ниспровержения существующего строя. Он убежден, что Тухачевский. Якир и Путна (Бенеш почему-то все время называл только этих трех военачальников) не являлись шпионами, но что они являлись заговорщиками, он в том не сомневался.
Итак, Бенеш был уверен в победе сталинского режима. Такая его уверенность базировалась на том, что «…этот режим не потерял морали, в то время как крикуны о перманентной революции явно не были на моральной высоте. В Москве расстреливают изменников и т.н. европейский свет приходит в ужас. Это лицемерие Бенеш не только отлично понимает, но и прямо одобряет московский образ действий…»
Данная беседа, выдержанная в духе дипломатического протокола, тем не менее проясняет позиции руководства некоторых сопредельных с СССР стран. Во-первых, не во всех европейских государствах отнеслись однозначно к московским процессам 1936–1937 годов. Во-вторых, видно явное заигрывание Бенеша с Москвой перед лицом растущей угрозы со стороны гитлеровской Германии, что выражается в заверениях о полной поддержке и симпатиях к существующему сталинскому режиму. Налицо боязнь дальнейшего укрепления советско-германского военного сотрудничества в ущерб национальным интересам Чехословакии.
В частности, Бенеш задавался и таким вопросом: «Что произошло бы, если бы в Москве победил не Сталин, а Тухачевский?». И отвечал на него:
«Тогда Чехословакия была бы вынуждена оставаться в дружбе с Россией Тухачевского. Но Чехословакия тогда была бы вынуждена достигнуть соглашения с Германией, а это опять-таки было бы началом зависимости либо от России, либо от Германии. Вернее всего от Германии, ибо Россия Тухачевских не постеснялась бы заплатить Германии Чехословакией». Бенеш же потому и ценит так высоко сталинский режим, что он не предъявляет претензий на Чехословакию и ее свободы…"
Мнение белой эмиграции
Первые сведения о начавшихся в отношении военного руководства СССР массовых репрессиях появились в газете только 26 мая 1937 г. Вышла маленькая заметка «Чистка красной армии».
В ней отмечалось, что наркомат обороны во главе с Ворошиловым высказался за удаление из армии всех офицеров, сомнительных в смысле политической благонадежности, и соответствующие списки будут составлены военными советами. При этом считалось, что уволенных офицеров сошлют в Сибирь. Внимательно и усердно газета следила за судьбой маршала Тухачевского. Смещение маршала с поста заместителя наркома обороны
«Последние новости» объясняли стремлением Сталина подчинить вооруженные силы СССР партийному влиянию. Русское зарубежье неоднократно отмечало, что Красная Армия многим обязана впавшему в опалу маршалу. Ведь «со времени прихода к власти Гитлера Тухачевский очень поднял боеспособность советских войск. Дисциплина стала твердой, авторитет офицерства был признан, влияние всемогущих прежде политических комиссаров пало… Тухачевский считался главным сторонником не политической, патриотической армии»
В 1937 году русская эмиграция почти полностью была на стороне красных полководцев, обвинённых Сталиным в заговоре. При этом эмигранты верили, что «заговор генералов» был, а в диктаторы России готовился маршал Тухачевский, который вернул бы в страну демократию и процветание.
Слухи о существовании «заговора военных» циркулировали в эмиграции давно. Например, газета «Возрождение» подняла эту тему ещё в 1936 году. За рубежом полагали, что между Сталиным и Красной Армией не только существовали разногласия, но и шла напряжённая «внутренняя борьба». Считалось, что высшие военные чины не разделяли генеральной линии партии и желали восстановить демократический строй в стране.
На советскую военную элиту Западом возлагались особые надежды как на последнюю авторитетную и монолитную силу, способную воздействовать на вождя и противостоять ему. Причём народ в этой борьбе якобы склонялся на сторону армии. Поэтому дни Сталина у власти, по единодушному мнению русского зарубежья, были сочтены.
В центре внимания эмигрантских периодических изданий, как правило, оказывался маршал Михаил Тухачевский. Молодой полководец и мыслитель представлялся Западу тем самым лидером, который сможет повести армию на бой с всесильным диктатором.
«Заговор», по мнению эмиграции, был. Но не с целью сокрушить свою собственную страну, не с целью соглашательства с западными державами. Просто Тухачевский хотел освободить армию от политического диктата, а страну – от сталинской тирании. На пути к этой цели маршал якобы намеревался поднять восстание и установить военную диктатуру.
«Последние новости» были уверены: никакой государственной измены не было.
Тухачевский и его соратники на суде «сознались только в том, чего они отрицать не могли и не хотели: а именно, что хотели избавить Россию и населяющие её народы от деспота Сталина и установленного им режима азиатской диктатуры, уничтожить коммунизм, и всё, что с ним связано, и восстановить на новых началах, с сохранением всех главных завоеваний революции, российское государство».
Газета была убеждена: не было речи ни о каких территориальных уступках со стороны России, имелось в виду не ослабление, а усиление армии. Расстрелянные вовсе не были пораженцами. Совсем не обязательно они склонялись к сотрудничеству с Германией, ведь у генералов были и предпочтения среди демократических союзников. В качестве примера издание называло бывшего начальник Военной академии имени М.Фрунзе и А.Корка, человека либерально-демократических взглядов.
«Последние новости» пытались подробно разобраться в замыслах «заговорщиков», которые якобы вовсе не собирались менять советской системы, но предполагали несколько раскрепостить режим. По мнению «Последних новостей», маршал Тухачевский намеревался ввести религиозную свободу, свободные выборы в советы и ликвидировать Коминтерн. В области социальной заговорщики предполагали восстановить мелкую крестьянскую собственность, но сохранить в руках государства национализированную крупную промышленность.
Таким образом, на страницах эмигрантских изданий сквозила романтизация образа Тухачевского как вождя освободительного движения против сталинской тирании.
Расстрел красных генералов 12 июня 1937 года Керенский назвал «событием огромной важности, открывающим новую главу в истории борьбы страны с выродившейся октябрьской диктатурой».

Александр Керенский считал расстрел военных сигналом к вырождению большевизма
Он полагал, что «дело» недовольных тиранией Сталина военачальников продолжат другие люди. Александр Фёдорович писал о репрессированных в восторженных тонах, как о героях важного, но не свершившегося предприятия:
«Убиты люди, но дух их остался, жив в стране и армии, ибо заговор здравого смысла и любви к родине не победить не может!».
Интересно, что, по мнению Запада, во главе заговора мог стоять не только Тухачевский, но и сам Нарком обороны СССР маршал Клим Ворошилов.
Так, уже в номере от 6 февраля 1937 года «Возрождение» цитировало слухи об и остром конфликте между Сталиным и Ворошиловым.
Причиной конфликта якобы стала попытка Наркома обороны помешать аресту нескольких высших чинов Красной Армии, среди которых находился сам маршал Тухачевский. Ворошилов вступился за офицеров и даже пригрозил «что свернёт Сталину шею, если тот посмеет пойти против него».
По другим слухам, распространившимся весной 1937 года в Париже, Сталин уже будто был арестован, а вся власть перешла в руки Ворошилова. В русском зарубежье возникла надежда, что в Москве после установления военной диктатуры наступит конец коммунистического строя.

В Париже считали что чистки в армии это результат конфликта Сталина и Ворошилова.
Ворошилов угрожал Сталину и вообще мог попытаться арестовать Сталина
Много шума возникло вокруг так называемого «письма Тухачевского», которое он незадолго до гибели якобы адресовал наркому обороны. В июле 1937 года «Возрождение» опубликовало выдержки из этого послания.
Издание полагало, что Ворошилов примыкал к «заговору», но в последний момент испугался, спасовал, несмотря на двадцатилетнюю дружбу с Тухачевским.
Своё участие в мятеже Михаил Николаевич объяснил опасением, «что партия перевоспитает весь народ в изменников и подлецов». При этом маршал добавил от себя, что «к числу таких изменников и подлецов принадлежит и Ворошилов, предавший всех участников антисталинского заговора»
«Я считал, что ты – мой друг, мой брат – до смерти! – так якобы обращался к наркому Михаил Николаевич. – Но ты предал меня и всех нас. На этот раз ты выкрутился. Как долго будет продолжаться твоя свобода?! Из всей «элиты» остались в живых только ты и Сталин. Либо ты его, либо он – тебя!».
В этом письме Тухачевский также якобы высказывал предположение, что его смерть воодушевит молодёжь на геройское дело, что он не будет осужден историей, ибо он желал счастья своей Родине.
«Ты знаешь, что я хотел освободить страну от гориллы, которая решила создать политическую армию. Но это будет не армия – а сброд», – объяснял Михаил Николаевич Ворошилову мотивы, побудившие его к выступлению.
Причины массовых репрессий против военных каждое издание трактовало по-разному. «Новая Россия», например, считала, что Сталиным движет слепая мания преследования, возможно, у него развилась душевная болезнь.
«Бессвязная нелепость всей этой сумасшедшей тряски и перетряски советского и партийного аппаратов управления приводят некоторых к мысли искать объяснений необъяснимому в каких-то психических процессах, переживаемых лично Сталиным, – писал Керенский. – Возможно, что когда-нибудь кремлевский ларчик раскроется с гениальной простотой: кремлевского всевластного затворника свезут в дом для особого рода больных».
Один из самых «левых» авторов «Новой России» Г.Федотов призывал русскую эмиграцию «изменником» и «предателем» своей страны считать вовсе не маршала М.Тухачевского, а самого И.Сталина:
«Если верить Сталину, то в измене и вредительстве повинна вся страна или, во всяком случае, весь её правящий слой – сверху до низу. Каждый день газеты приносят раскрытия все новых и новых измен. Не сомневаюсь, им долго верили.
Массы легко поверили в измену Троцкого, Каменева, Зиновьева. Но когда круг вредителей расширяется безгранично, казалось бы, сама собой приходит в голову догадка: кто же честный, верный? один Сталин? Не проще ли, не правдоподобнее ли предположить, что главный, если не единственный, изменник и вредитель это он сам?»
.....
При этом мнение зарубежных кругов о Михаиле Николаевиче как о военном специалисте оставалось достаточно высоким. В июне газета опубликовала отзывы французского генерала Морана (военного министра в 1936 г.) о Тухачевском, который утверждал, что в лице Тухачевского красная армия потеряла крупную и полезную силу.
«Тухачевский произвел на меня впечатление человека, исключительно компетентного во всем, что касается военного материала, - говорил Моран.-
В разговоре со мной он касался технических вопросов слегка, но всякий раз проявлял глубокое знание дела. Техников такого калибра в армиях немного. Тухачевский был, по моему мнению, крупной силой: молодость, напор, образование…»
«Большую сенсацию» произвело сообщение советских газет о том, что другой заместитель наркома обороны Я. Б. Гамарник находился в тесной связи с «антисоветскими элементами» и, боясь разоблачения, покончил с собой (эту новость парижское издание опубликовало 2 июня). Известие стало такой неожиданностью, что фото Гамарника сразу не успели найти и поместили его только в следующем номере.
Гибель Гамарника вызвала всеобщее недоумение за границей. Отмечалось, что Ян Борисович всегда считался горячим сталинцем и лишь за два дня до самоубийства был избран членом пленума московского горкома ВКП (б).
«Гамарник, интимный друг Ворошилова, пользовался личным доверием Сталина. Именно ему Сталин поручил «чистку» офицерского корпуса. Но, видимо, «чисткой» он воспользовался для того, чтобы продвинуть своих людей на все более или менее крупные посты», - так комментировали трагическую судьбу комиссара «Последние новости»

Ян Гамарник бывший правой рукой Ворошилова покончил с собой и это вызвало удивление на западе
Обстоятельства самоубийства Гамарника газета обсуждала в течение нескольких номеров. С большим интересом следило русское зарубежье за перестановками в командном составе Красной Армии. Много внимания газета уделила личным характеристикам выдвиженцев.
В центре внимания эмигрантской прессы оказались новый замнаркома маршал А. И. Егоров и новый начальник Генерального штаба командарм Б. М. Шапошников.

Б.М. Шапошнков достаточно высоко оценивался в западной прессе
Борис Михайлович Шапошников, как офицер с полным академическим образованием и солидным боевым стажем, по мнению «Последних новостей», выгодно отличался от всех сомнительных кандидатов из числа так называемых «героев гражданской войны», которые до сих пор выдвигались на высшие военные посты.
Шапошников, как отмечала газета, весьма заметно выделялся среди других ставленников в военном руководстве. Правда, говорить при этом «об его исключительных дарованиях» издание тоже затруднялось. Скептически отзывалась газета о маршале Егорове. Подобные отзывы были связаны с анализом официальной биографии полководца.
Военный путь Александра Ильича, с его «облегченным» образованием в пределах курса юнкерского училища, ограниченным опытом ротного командира в Первую мировую войну и стажем командарма в гражданскую, а также «мало-поучительным» участием в польской кампании не создавал ему поклонников на западе.

Маршал А.И. Егоров негативно оценивался в западной прессе
«Последние новости» отмечали, что какими бы маршальскими жезлами и звездами не украшали таких «героев Гражданской войны», как Егоров, «их невозможно даже ставить рядом с высокообразованными немецкими офицерами»
Мнение о других выдвиженцах было еще более резким:
«Сталин вытащил из нафталина таких «героев» гражданской войны, как вахмистр Буденный и матрос Дыбенко: это они будут отныне «командовать» войсками в Москве и Петрограде… Очевидно, роль этих командующих может быть лишь чисто фиктивной»
«Герои», «командующие», «заслуженные» - так и именно так, в кавычках, язвительно называла их зарубежная пресса. Буденный и Дыбенко представлялись русской эмиграции полными «нулями» и с политической и с военной точки зрения. Резко осуждался Сталин, который в жертву «самосохранения «величайшего из людей» принес национальную безопасности
«Все вновь назначенные лица являются преданными сторонниками Сталина, - подытоживала газета в отчете 12 июня. - В военном отношении они, конечно, много уступают Тухачевскому и другим снятым с командных постов лицам, и боеспособность красной армии, конечно, не выиграет от этих перемен»
..................
Еще один вопрос, который волновал эмиграцию – почему маршал Блюхер занял место Ворошилова на обвинительном процессе?
Почему Ворошилов и Орлов не вошли в состав трибунала, а имя Егорова было вычеркнуто в последний момент?
Утверждали также, что Ворошилов не сочувствовал расправе. И даже ходили слухи о возможности отставки Ворошилова и назначении Блюхера на пост наркомвоена.

В западной прессе ожидали смещения Ворошилова и назначения на его пост маршала В. Блюхера
"Отставка Ворошилова – вопрос, в Кремле окончательно решенный, утверждали «Последние новости». - Ворошилов будет смещен за то, что «не сумел предотвратить фашистско-троцкистский заговор. Наоборот, восходит звезда Блюхера, которому будет поручено образовать вдоль западных и юго-западных границ СССР, «особые армии» на манер дальневосточной"
И, наконец, еще один интересующий заграницу вопрос – чего же хотели «заговорщики», чего они добивались? «Последние новости» были уверены: никакой государственной измены не было.
Тухачевский и его соратники на суде «сознались только в том, чего они отрицать не могли и не хотели: а именно, что хотели избавить Россию и населяющие ее народы от деспота Сталина и установленного им режима азиатской диктатуры, уничтожить коммунизм, и все, что с ним связано, и восстановить на новых началах, с сохранением всех главных завоеваний революции, российское государство»
Цитируя официальные обвинения советского правосудия в адрес репрессированных военачальников (подготовка восстания против сталинского режима, подготовка покушения на Сталина), газета неоднократно отмечала, что за рубежом никто в обвинения не верит.
В чем действительно провинились Тухачевский и его соратники – неизвестно. В такой ситуации полного неведения «Последние новости» выдвинули свою версию произошедшего, основываясь на предположения парижских дипломатических кругов. Заговор, по мнению, издания, похоже, все-таки был, имел целью
«свержение Сталина и установление военной диктатуры с Тухачевским во главе государства и принял окончательные формы несколько месяцев назад. Целью заговора было установить военную диктатуру. Заговорщики не собирались менять советской системы, но предполагали несколько раскрепостить режим, главным образом в области крестьянского хозяйства. Предполагалось ввести религиозную свободу, свободные выборы в советы и ликвидировать коминтерн»
Позже эти предположения стали обрастать конкретикой:
«В первое время, до полного успокоения, должна была быть установлена военная диктатура во главе с Тухачевским. В области социальной заговорщики предполагали восстановить мелкую крестьянскую собственность, но сохранить в руках государства национализированную крупную промышленность»
«Последние новости» были убеждены: не было речи ни о каких территориальных уступках со стороны России, имелось ввиду не ослабление, а усиление армии. Расстрелянные совсем не были пораженцами. Вовсе не обязательно они склонялись к сотрудничеству с Германией, ведь у «генералов» были и предпочтения среди «демократических союзников».
В качестве примера газета называла бывшего начальника Военной академии имени М. В. Фрунзе А. И. Корка, человека либерально-демократических взглядов. Новый же строй, который готовились ввести репрессированные, вполне возможно мог быть близок французам. Как же «Последние новости» оценивали последствия разгромного «дела Тухачевского»?
В первую очередь, газета отмечала стремительное падение международного престижа СССР. Отсюда в Японии и Германии усилились завоевательные тенденции, ведь фашистские хищники «почувствовали наступление благоприятного момента»
«Не находится ли советская Россия в том состоянии крайнего внутреннего кризиса, при котором Россия вновь становится колоссом на глиняных ногах, от которого союзники не могут ждать действенной помощи?» - таким вопросом задавалась газета 22 июня 1937 года
А вот что писал главный политэммигрант.
"Запоздалый суд над маршалом Тухачевским.
На этом процессе судят не только разбитых и раздавленных людей, нравственных полутрупов, но и прямых покойников. Тени маршала Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка и других убитых генералов сидят на скамье подсудимых. После ареста и последовавшего вскоре затем расстрела советская печать говорила о них, как об иностранных агентах и шпионах.
О военном заговоре, о плане захвата Кремля и убийства Сталина не упоминалось ни разу. Между тем, казалось бы, правительство должно было уже тогда знать, за что собственно оно расстреляло лучших советских полководцев. Но в момент острой политической паники летом прошлого года, Сталин действовал быстрее, чем думал. Боясь реакции армии, он не считал возможным расходовать время на инквизиционную обработку генералов.
К тому же, это были люди младшего поколения, с более крепкими нервами и привыкшие смотреть в глаза смерти. Для гласного процесса они не годились. Выход оставался один: сперва расстрелять, а затем объяснить. Но даже и после того, как отзвучали выстрелы маузеров, Сталин все еще не мог остановиться на необходимой версии обвинения. Сейчас можно уже с полной уверенностью сказать, что покойный Игнатий Райсс был прав, когда утверждал, что никакого военного суда при закрытых дверях не было. Да и к чему было бы закрывать двери, если б дело действительно шло о заговоре?
Генералы были убиты в том же порядке, в каком Гитлер в июне 1934 г. расправился с Рёмом и другими. По-видимому, уже после кровавой расправы восемь других генералов (Алкснис, Буденный, Блюхер, Шапошников и др.) получили готовый текст приговора, под которым им приказано было подписаться. Цель состояла в том, чтобы, убивая одних, проверить и скомпрометировать других. Это вполне в стиле Сталина. Можно не сомневаться, что некоторые из мнимых «судей», если не все, не соглашались выступить перед общественным мнением в качестве палачей своих ближайших соратников, да еще после того, как палаческая работа уже была выполнена другими. Имена упорствующих все равно были поставлены под приговором, а сами они подвергались в дальнейшем смещению, аресту и расстрелу. Все казалось закончено.
Однако, общественное мнение, в том числе и мнение самой Красной Армии, не хотело и не могло верить, что герои гражданской войны, блестящие солдаты революции, гордость страны, оказались, неизвестно почему, немецкими или японскими шпионами. \
Понадобилась новая версия. Во время подготовки нынешнего процесса решено было вменить ретроспективно покойным генералам план военного coup d'etat. Дело шло таким образом не о презренном ремесле шпиона, а о горделивом замысле военной диктатуры. Тухачевский хотел овладеть Кремлем, Гамарник — Лубянкой (помещением ГПУ). Сталин должен был быть при этом убит в 101-й раз.
Как всегда, новая версия сразу получила обратную силу. Прошлое перестраивается в соответствии с потребностями настоящего. По словам Розенгольца, Седов рекомендовал ему уже в 1934 г. в Карлсбаде (где Седов никогда в жизни не был) внимательно наблюдать за «союзником» Тухачевским, которому свойственна тенденция к наполеоновской диктатуре. Так схема заговора постепенно расширяется во времени и в пространстве. Обезглавление Красной Армии оказывается только эпизодом в истребительном походе против вездесущего и всепроникающего «троцкизма».
В интересах ясности я должен сказать здесь несколько слов об отношениях, какие существовали между мной и Тухачевским. Я помогал ему в его первых шагах в Красной Армии, на Волге. Весь первый этап своей военной карьеры он совершил в тесном сотрудничестве со мной. Я ценил его военный талант, как и независимость его характера, но не слишком брал всерьез коммунистические взгляды этого бывшего гвардейского офицера. Тухачевский чувствовал и то, и другое.
Он относился ко мне, насколько я мог судить, с искренним уважением, но наши беседы никогда не выходили за пределы официальных отношений. Думаю, что он принял мой уход из военного ведомства, отчасти с сожалением, отчасти со вздохом облегчения. Он мог, не без основания, считать, что для его честолюбия и независимости откроется, с моим уходом, более широкая арена. С момента моей отставки, т.е. с весны 1925 г., мы с Тухачевским никогда не встречались и не переписывались. Он вел строго официальную линию. На партийных собраниях в армии он был одним из главных докладчиков против троцкизма. Думаю, что он делал это без увлечения, по обязанности.
Но его активного участия в отравленной кампании против меня было слишком достаточно, чтоб исключить возможность каких бы то ни было личных отношений между нами.
Все это было настолько всем ясно, что никому не могло прийти в голову устанавливать политическую связь между Тухачевским и мною. Этим и объясняется тот факт, что ГПУ не решилось в мае-июне прошлого года связать дело генералов с троцкистскими «центрами». Нужно было несколько лишних месяцев забвения и несколько дополнительных пластов лжи, чтоб отважиться на подобный эксперимент.
Приговор так называемого Верховного Суда («Правда», 12 июня 1937 г.) обвиняет генералов в том, что они «систематически доставляли… шпионские сведения» враждебному государству и «подготовляли на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии». Это преступление не имеет ничего общего с планом военного переворота.
В мае 1937 г., когда, согласно показаниям Крестинского, должен был совершиться захват Кремля, Лубянки и пр., не было никакого «военного нападения на СССР». Военные заговорщики вовсе не собирались, следовательно, дожидаться войны.
У них заранее был назначен определенный день для военного удара. Между тем то «преступление», за которое генералы были расстреляны, состояло в шпионаже с целью обеспечить «на случай войны» поражение Красной Армии. Между двумя версиями нет ничего общего. Они исключают друг друга. Но ни прокурор Вышинский, ни председатель суда Ульрих конечно не затрудняют себя сопоставлением показаний нынешних подсудимых с текстом смертного приговора Верховного Суда от 11 июня 1937 г.
Новая версия разыгрывается, как если бы никогда не было ни «Верховного Суда», ни приговора, ни расстрела. С почти маниакальной настойчивостью Крестинский и Розенгольц, главные помощники прокурора в этой части процесса, возвращаются к вопросу о заговоре Тухачевского и моей мнимой связи с ним.
Крестинский показывает, будто получил от меня письмо от 19 декабря 1936 г., т.е. через десять лет после того, как я порвал с ним всякие отношения, и что в этом письме я рекомендовал создать «широкую военную организацию». Это мнимое письмо, услужливо подчеркивающее «широкий масштаб заговора», имеет очевидной целью оправдать истребление лучшей части офицерства, начавшееся в прошлом году, но еще далеко не закончившееся и сегодня. Крестинский конечно «сжег» мое письмо, по примеру Радека, и ничего не представил суду, кроме своих путаных воспоминаний.
Тот же Крестинский, вместе с Розенгольцем, показали, будто уже после расстрела генералов получили от меня письмо, написанное незадолго до расстрела уже из далекой Мексики и требовавшее «ускорения coup d'etat». Надо думать, что и это письмо «сожжено» по примеру всех писем, фигурирующих в процессах последних лет. Во всяком случае, после месяцев интернирования, принудительного путешествия на танкере, отдаления от места действий океаном и континентом, я оказываюсь так точно посвящен в практический ход военного заговора, что даю даже указания относительно срока переворота. Но как дошло до Москвы моё письмо из Мексики?
Американские друзья высказывают предположение, что таинственный Мистер Рубенс будет фигурировать на процессе в качестве того курьера, который призван был связать меня с тенями московских генералов. Так как я ничего не знаю о Рубенсе и его орбите то я вынужден воздержаться от суждения. Полагаю, что г.г. Браудер и Фостер могли бы высказаться по этому вопросу с гораздо большим авторитетом.
Важнейший свидетель обвинения по делу Тухачевского и других, Николай Крестинский, был арестован уже в мае 1937 г. и, по собственным словам, через неделю после ареста дал чистосердечные показания. Генералы были расстреляны 11 июня. Судьи должны были в это время иметь в своем распоряжении показания Крестинского. Он сам должен был быть вызван на суд в качестве свидетеля (если б суд вообще имел место). Во всяком случае, в извещении о расстреле генералов правительство не могло бы говорить о шпионаже и молчать о военном заговоре, если б показания Крестинского не были изобретены после казни генералов.
Суть дела в том, что Кремль не мог вслух назвать действительную причину казни Тухачевского и других. Генералы выступили на защиту Красной Армии от деморализующих происков ГПУ. Они защищали лучших офицеров от подложных обвинений. Они противились установлению диктатуры ГПУ над армией под видом «военных советов» и «комиссаров».
Генералы защищали интересы обороны против интересов Сталина. Поэтому они погибли. Так из вопиющих противоречий и нагромождений лжи нового процесса тень маршала Тухачевского выступает с грозной апелляцией мировому общественному мнению!
5 марта, 1938 г., 9 часов вечера, Койоакан
Л. Троцкий"

По мнению Л. Троцкого, главной целью чисток было установление диктатуры НКВД в армии

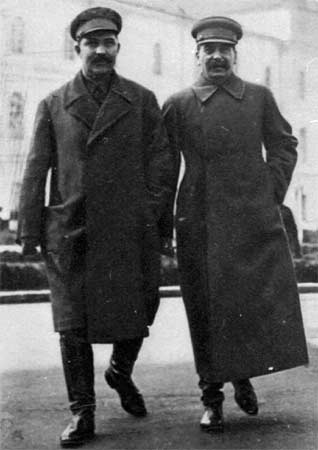














Комментарии
У вас сажали только за одни убеждения, а у нас русских сажали по конкретным обвинениям. Так что уж точно не вам судить