Андрей Соболь. Осип Мандельштам. «Габима»
23 октября на 64 году жизни скончался автор журнала «Лехаим», литературный критик Леонид Кацис. В память о коллеге мы публикуем подборку его материалов, выходивших в нашем журнале в разные годы.
 Осип Мандельштам
Осип Мандельштам
Идею внимательного прочтения очерка Осипа Мандельштама «Михоэльс» как важного и по‑мандельштамовски сложного текста, основанного на широкой гамме неочевидных источников, мы начали реализовывать еще в книге «Осип Мандельштам: мускус иудейства ». С тех пор многое прибавилось и прояснилось.
Раскрытие этой сложной мозаики, доступной лишь тем, кто находится внутри истории еврейского театра и еврейской жизни конца 1910‑х — начала 1920‑х годов, оказывается важнейшим для определения включенности Мандельштама в эту жизнь в целом. И вот новый пример.
В монографии Владимира Хазана об Андрее Соболе появился в обратном переводе написанный по‑русски, но сохранившийся на иврите текст о «Габиме» 1924 года «Нечто вроде утешения», который, как мы попытаемся показать, отразился в «Египетской марке» .
Этот текст необходимо включить в рассмотрение рецепции Мандельштамом еврейского театра, с одной стороны, на идише, а с другой, как это ни странно, — на древнееврейском языке, объединить впечатления Мандельштама и от еврейского театра в разных видах, и от текстов об их спектаклях. Об этом нам уже приходилось писать в связи с ГОСЕТом, а о следах текстов Акима Волынского, попавших в ту же прозу Мандельштама и связанных как раз с древнееврейской «Габимой», писала Е. Д. Толстая .
В этот ряд придется включить и реакцию Мандельштама на параллельное существование в СССР 1920‑х годов театров на древнееврейском языке «Габима» и на идише ГОСЕТ. Она, как стало недавно известно, отразилась в пропущенной в газетной публикации 1926 года строке из очерка Мандельштама «Киев». Фраза эта всплыла лишь в 2011 году и показалась нам истинной находкой публикатора крайне неудачного Полного собрания сочинений Мандельштама в 3 томах А. Г. Меца .
Однако, как оказалось во время официозно‑государственного празднования 125‑летия Мандельштама, строка эта была прекрасно известна узкому кругу Надежды Яковлевны Мандельштам уже десятилетия. Это позволяет датировать самым началом 1960‑х годов появление цензурных ограничений на серьезное обсуждение еврейских текстов Мандельштама, наложенных не государством, а указанным кругом вдовы поэта.
Это стало ясно из переписки мандельштамоведа самого первого призыва А. А. Морозова и Н. Я. Мандельштам, опубликованной в книге о последней «Посмотрим, кто кого переупрямит…» в 2015 году.
Итак, весной 1962 года А. А. Морозов пишет:
<…> список с газетного текста, сделанный в свое время Вами и Евг. Як., не совсем точен, и отдельные слова в нем пропущены. Интересные детали есть в черновике «Киева» <…> сапожник сравнивается там с актером‑подмастерье из театра Габима .
Н. Я. Мандельштам и А. А. Морозов имели прямое отношение к публикации текстов Мандельштама, и тогда «забывчивость» (а Морозов пропустил еще и «еврейских дам») участников большой игры в «асемитизм» (как называл еще В. Жаботинский в одноименном фельетоне времен споров 1909 года о евреях и русской литературе либерально‑интеллигентское избегание еврейской темы) вокруг возвращения имени Осипа Мандельштама читателю выглядит намеренной. Трудно сказать, насколько Н. Я. Мандельштам была в курсе еврейских театральных дел и подобных интересов мужа, но упоминание «Габимы» в киевском контексте звучало либо бессмысленно, ведь древнееврейский театр там никогда не гастролировал и еврейкам‑киевлянкам в «желтых жакетах» знаком не был, либо слишком остро полемично в условиях, когда киевский журнал «Театр. Музыка. Кино» вел полемику с ленинградскими сторонниками «Габимы» и противниками театра Грановского .
 Андрей Соболь. Берн. 1909
Андрей Соболь. Берн. 1909
Однако еще в 1918 году (совсем незадолго до появления Мандельштама в 1919 году в Киеве и до знакомства будущих супругов) Андрей Соболь размышлял о судьбах еврейского театра так:
К какому бы вопросу еврейской жизни я ни подходил <…> я не могу отрешиться от основной, и для меня абсолютной, мысли о ненормальности всего национального еврейского бытия.
И когда ствол еврейского органического национального существа пребывает в искривленном состоянии, мудрено ли, что по кругам его, обозначающим годы жизни, нередко мелькают темные пятна. Эти пятна меньше всего говорят о здоровых соках и настойчивее всего требуют радикальной и решительной операции .
Это многослойное и очень, как ни странно, киевское рассуждение.
Первый слой — это Лессинг в «Натане Мудром»:
Но только надо, чтоб один другого
Не порицал, — чтоб терпеливо наросль
Корявый сук сносила, — чтоб верхушка
Не вздумала гордиться, что она
Одна из‑под земли не вырастала.
Его процитировал в киевском «Сионистском альманахе» Макс Емельянович Мандельштам (ранний соратник Герцля, позже сооснователь территориализма) и продолжал: «…Я убежден, что русско‑еврейская интеллигенция еще не созрела для того, чтобы ее можно было национализировать. Архимедов рычаг, найденный нами несколько лет назад (сионизм. — Л. К.) пригоден для поднятия больших масс, сплоченных, связанных между собою льющимся цементом традиций и страданий; но не для поднятия тех разрозненных хрупких элементов, называющихся русско‑еврейской интеллигенцией и составляющих как бы злокачественное образование на нашем национальном теле, ничего общего с ним не имеющее ».
Сюда и восходят слова Соболя из киевской статьи 1918 года: «И когда я мысленно задаю себе вопрос, кто виноват, что у евреев вместо театра — темное пятно, вместо подлинного театрального зрелища — балаган самого низкого пошиба, вместо театральной культуры — какая‑то жидкая мутная кашица с потугами на нечто доброкачественное, а вместо актера — этого живого нерва театра — развязный любитель из местечка, в лучшем случае — неудачник‑кантор, — я отвечаю: еврейская интеллигенция. Если не вся, то почти вся, за малым исключением» (курсив в цитате наш. — Л. К.).
На наш взгляд, статья или очерк Мандельштама о Михоэлсе представляет собой ответ на то, что отмечал в 1918 году его киевский коллега . Именно на эти слова Соболя отвечал Мандельштам в 1926 году: «Какой счастливый Грановский! Достаточно ему собрать двух‑трех синагогальных служек с кантором, позвать свата‑шатхена <…>, поймать на улице пожилого комиссионера — и вот уже готова постановка, и даже Альтмана, в сущности, не надо».
Но к этому времени уже твердо обосновалась в советской театральной критике позиция: ГОСЕТ Грановского и его актеры — сторонники мастерства ради мастерства, а не очень профессиональные актеры «Габимы», выпестованные Е. Б. Вахтанговым, — выразители мессианского театра. Однако нас сейчас интересует адекватность фразы Мандельштама, выпавшей из газетного варианта «Киева», где актеры‑«денди» ГОСЕТа противопоставлялись жонглеру‑сапожнику, сравнимому с «актером‑подмастерье из театра Габима».
А в 1923 году, когда уже несколько лет как возник ГОСЕТ, тот же Соболь писал о новом явлении в терминах 1918 года, но с обратным знаком. Во‑первых, это одно место из статьи «Михоэльс» в серии «Молодой театр», которое параллельно уже приведенному из статьи 1918 года, но совершенно иначе звучит в 1923 году, ведь в отличие от 1918 года еврейский театр уже возник. Более того, это едва ли не сознательная отсылка к статье 1918‑го.
Это — чудесный ответ на скептическое, интеллигентски расслабленное: «быть или не быть?»
Это ликующий ответ действенной жизни на мертвое схоластическое мудрствование <…>
И Михоэльс первый вестник ее, первый, но верим, что не последний.
Первому — наша любовь; последующим — наш горячий привет.
Есть вещи незабываемые — к ним принадлежат: первая встреча, первая любовь, первое слово, произнесенное твоим ребенком, первая зелень после долгой зимы.
Окружите все это кулисами, над входом прибейте «еврейский театр», прищурясь, взгляните, как уходят в небытие серенькие тени балаганного прошлого (ау, где они!), и вы в коротеньком обозначении «Михоэльс» все это почувствуете, поймете, как могут для нас в одном коротком словесном начертании сочетаться и встреча, и любовь, и слово, и весна.
И все это — впервые (выделено нами . — Л. К.).
На этом фоне описание еврейского театра Грановского в очерке Мандельштама о Михоэлсе становится уже гарантированным ответом не на одну, а на две статьи Андрея Соболя о еврейском театре — прошлом и настоящем.
А вот и второй пример из той же статьи, который для нас особенно важен. Ведь должны же быть какие‑то следы прямой полемики Мандельштама с Соболем, если мы правы в предыдущем случае. И, похоже, такой след находится. Вот что пишет Соболь в цитируемой статье: «Пять‑семь лет тому назад, когда русский театр уже имел за собою историю — ряд крупных побед, ряд изумительных достижений, — еврейский ютился в балагане, был балаганом и жил балаганом. А в 1921–1923 гг. — через каких‑нибудь семь лет — он до основания разрушает балаганные подмостки, прогоняет кривляк и куплетистов, топчет пресловутый лапсердак (неотъемлемую принадлежность еврейского театрального действия), на веки вечные рвет на куски колпак с погремушками — и дает нам Михоэльса ».
А вот «ответ» Мандельштама, который следует как раз после «счастливого Грановского», которому и «Альтмана не надо»:
Так ли это просто? Конечно, не так. Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотвореннейшего лапсердака.
Этот парадоксальный театр, по мнению некоторых добролюбовски глубокомысленных критиков, объявивший войну еврейскому мещанству и только и существующий для искоренения предрассудков и суеверий, теряет голову, пьянеет, как женщина, при виде любого еврея и сейчас же тянет его к себе в мастерскую, на фарфоровый завод, обжигает и закаляет в чудесный бисквит .
 Соломон Михоэлс в роли Гоцмаха «Колдунья» по А. Гольдфадену. 1922
Соломон Михоэлс в роли Гоцмаха «Колдунья» по А. Гольдфадену. 1922
Давно замечено, что один из эпизодов «Михоэльса» использован в «Египетской марке»: «… на нас глядит, вспыхивая из <темноты> прожектором, маска еврипидова актера — слепое лицо, изборожденное зрячими морщинами. Теоретики классического балета (вот очевидный след Волынского, который постоянно писал о роли выразительного лица балерины для восприятия балетного образа. — Л. К.) обращают громадное внимание на улыбку танцовщицы. Они считают ее дополненьем к движению, истолкованием — прыжка, полета. (Далее в черновиках следовало, указывает публикатор С. Василенко: «Но это пляска мыслящего тела , которой учит нас Михоэлс». — Л. К.) Но иногда опущенное веко видит больше, чем глаз, и ярусы морщин на человеческом лице глядят, как скопище слепцов… Когда изящнейший фарфоровый актер мечется по сцене… »
Здесь Мандельштам (а мы имеем дело с черновиком!) вольно или невольно задел материю, не имеющую никакого отношения к Михоэлсу и спектаклям ГОСЕТа, но имеющую отношение к Соболю, отбывавшему каторгу на так называемой Колесухе .
Между этими статьями и располагаются статьи о еврейском театре Грановского. Поэтому, похоже, именно Соболь оказывается еще и прототипом Парнока из «Египетской марки»:
Тогда изящнейший фарфоровый портной мечется, как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор, готовый крикнуть последнее неотразимо убедительное слово.
В моем восприятии Мервиса просвечивают образы: греческого сатира, несчастного певца‑кифареда, временами маска еврипидовского актера, временами голая грудь и покрытое испариной тело растерзанного каторжанина, русского ночлежника или эпилептика .
Если кусок о лице актера столь важен для понимания Мандельштама, то тем более важно читать дальше так же внимательно отрывок, не попавший напрямую в «Египетскую марку», но связанный с Соболем и «каторжанином». Читаем дальше: «…избитый товарищами, истерзанный, как запарившийся банщик в эпилептическом вдохновении, как базарный вор, собравшийся крикнуть нечто неотразимо‑убедительное перед самосудом…» Но это вновь мотив из «Египетской марки» — сцена самосуда питерской толпы; у этой сцены есть свой киевский источник — в киевской «Кровавой шутке» Шолом‑Алейхема .
Мандельштам продолжает: «…тогда стираются границы национального — и начинается высокий хаос трагического искусства».
Здесь, казалось бы, Мандельштам уходит от национального театра к общечеловеческим трагедиям. Однако не будем забывать, что этот «высокий хаос» создает «иудаистический актер». Таким образом, «хаос иудейский», то есть не эллински (еврипидовски) театральный языческий, а еврейский, или иудейский, хаос становится мирового качества еврейским театром, способным, как вскоре оказалось, поставить на идише и «Короля Лира». Не забудем, что и Михоэлс — еврейский актер стал в конце концов актером иудаистическим.
Теперь мы можем вернуться к статье Андрея Соболя о «Габиме» с не проясненным публикатором заглавием «Нечто вроде утешения».
Владимир Хазан пишет: «Текст этот хотя и был опубликован, однако включен в сборник ивритских материалов о “Габиме” “Берешит Габима: Нахум Цемах. Меясед Габима бе‑хазон у‑бе‑маас” (Рождение «Габимы»: Наум Цемах: основатель «Габимы» в мечте и в деянии) (Jerusalem, 1966), что затрудняет знакомство с ним как широкого читателя, так и специалистов ».
И чуть далее оценка интересующего нас текста:
В своем тексте не без стилистического остроумия Соболь несколько раз обыгрывает содержание габимовских спектаклей. Когда он пишет о себе как о человеке не хромающем («Я не хромоногий, при ходьбе не падаю на бедро»), это, несомненно, должно быть прочитано не столько как самоаттестация, сколько в виде «наоборотной» аллюзии на хромающего библейского праотца Яакова из спектакля «Сон Иакова» по пьесе Р. Беер‑Гофмана. Свою трепетную любовь к «Габиме» Соболь сравнивает с любовью Леи и Ханаана — героев одного из самых известных габимовских спектаклей «Диббук» по пьесе С. Ан‑ского; когда он употребляет выражение «меж двух миров», понятное дело, здесь скрыт намек на первое (главное) название этой пьесы; «еврей, ночующий на вокзалах всего земного шара» — отголосок спектакля «Вечный жид» по пьесе Д. Пинского. Словом, Соболь строит очерк как своего рода «сборную цитату» из разноцветных осколков габимовского творчества и тем самым стремится достичь художественной ясности собственного текста .
Многое в сказанном В. Хазаном верно. Однако далеко не все. И, прежде всего, бросается в глаза отсутствие анализа странного, мягко говоря, названия этой статьи.
Кому и по какому поводу надо сочувствовать, кого и почему надо утешать? А без ответа на этот вопрос двигаться дальше невозможно. А ключ к названию — в годе написания статьи — 1924‑й.
Дело в том, что это более чем трагический год в истории «Габимы». И утешения тут были не лишни. В 1922 году ушел из жизни Вахтангов, постановщик «Дибука», а в 1924‑м умер Мчеделов, поставивший две редакции «Вечного жида» — до и после «Дибука». Второй вариант был жестоко разгромлен критикой.
Теперь посмотрим, насколько глубоко эта статья прочитана публикатором русского текста.
В этой статье Соболь разделяет часто встречающееся в критике 1920‑х годов мнение о «Габиме» как мессианском театре: «На небольшом возвышении крошечного театра на Кисловке произошел бунт против всех привычных форм, понятий и чувств, который прошествовал не только по Кисловке и не только по Москве. И слом этот дал не российскому, но и всему еврейству новые мерила, новое летоисчисление — дней, месяцев и годов ».
Эры и летоисчисления меняются, как известно, при приходе Мессии. Об этом и был «Вечный жид» режиссера Мчеделова.
Поэтому подобный мотив был вполне понятен Мандельштаму, автору «Среди священников левитом молодым…» и т.п. Но читаем дальше текст с указанным намеком на пьесу «Дибук, или Меж двух миров»: «Итак, между двух миров — хотя в данном случае “между” не означает привычное колебание: блуждать без дороги, двигаться ощупью, как слепой, нащупывающий твердый путь. При падении миров, в эпохи перекройки территорий требуются гигантские усилия, чтобы устоять. В это время предпочтительны осторожные движения, хотя и проникнутые по необходимости силой внутренней страсти. “Габима” знала, знает и, возможно, узнает еще эти движения. Что же касается внутренней страсти — она была, есть и будет, чтобы предохранить ее от сползания вниз…»
Перейдем к проблеме «хромоты», о которой Соболь пишет так:
Я не хромоногий, при ходьбе не припадаю на бедро. Но в театре «Габима» я не испытываю необходимости в стуле и скамейке, так как я еврей, ночующий на вокзалах всего земного шара, который в 1924 году вновь наследует гримасы испанского марана 1600 года. Я знаю, что в этом театре мне обещают не спокойную жизнь, а скитания, не бинокль, а два глазных отверстия, напитанных кровью и слезами.
И чуть ниже следует текст, менее всего связанный с реальностью, учитывая известные нам театральные тексты Соболя:
Я припадал и буду припадать, удовлетворяя жажду, к водам этого источника. Я не театральный критик — у меня нет ни одной приличной рецензии, да и участия в полемике о театре я не принимал. Но и моим голосом говорит еврей‑скиталец, еврей‑воин, и сам я человек прохожий. Я и в самом деле прохожий. Я, собственными глазами видевший прибытие и отбытие всех поездов мира, могу косноязычной речью свидетельствовать лишь о себе, потому что духовную жажду утоляет только внутренний источник.
Владимир Хазан в своем вступительном очерке к тексту использовал выражение «наоборотная аллюзия». Но в «Египетской марке» Мандельштама мы уже видели такие цитаты и из себя самого, и из современников. Поэтому там, где мы увидим у Мандельштама еврейку, провожающую с надеждой поезда на питерском вокзале, мы сможем сопоставить этот образ со статьей Соболя.
Вот эти отрывки: 1) Время, робкая хризалида, обсыпанная мукой капустница, молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, — лучше бы ты не глядела! 2) Память — это больная девушка‑еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?
Но ведь «прохожий» Соболя и его же Вечный (вокзальный) жид, наследующий гримасы марана 1600 года, не имеющий отношения к мессианскому содержанию пьесы Пинского, является точным антиподом девушки‑еврейки как символа еврейской памяти. Его никто не должен никуда взять с конкретного питерского вокзала, он провожает все поезда мира, и провожает вечно. В отличие от Вечного жида, Вечной жидовки не бывает, а бывает романтическая красавица еврейка, которая (в основном) убегает из дома, например с офицером, или соблазняет честного христианина. Вряд ли этого может достичь «больная девушка‑еврейка». К тому же, девушка «убегает ночью из родного дома», а герой Соболя никуда не бежит, он сам видит «прибытие и отбытие всех поездов мира».
Если пример с Вечным «вокзальным» жидом более или менее понятен, то пример с «бабочкой‑капустницей», «обсыпанной мукой» и прильнувшей к «окну часовщика», устроен несколько сложнее.
Слово «хризалида», как указывает словарь галлицизмов русского языка, имеет не только значение «куколки бабочки» — это и имя нимфы.
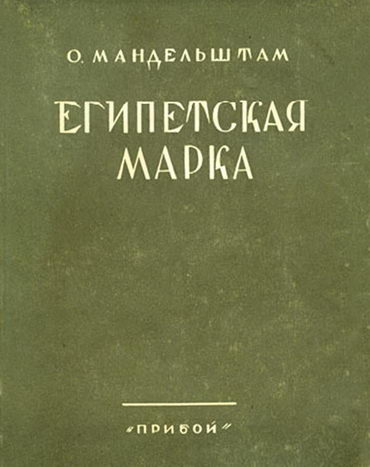 Обложка первого издания «Египетской марки» Осипа Мандельштама. Ленинград: Прибой, 1928
Обложка первого издания «Египетской марки» Осипа Мандельштама. Ленинград: Прибой, 1928
Энтомологическое понятие давно стало определением становления девушки, в чем‑то параллельным «Бабочке‑буре» Б. Пастернака. Но тогда обе эти фразы Мандельштама о времени и памяти легко прочитываются как взросление младенца–девочки–девушки. Отсюда и память (как у Соболя от марана 1600 года, испанского крещеного еврея, до наших дней в 1924 году). Стихи поэтов из числа этих испанских и португальских маранов и переводил Валентин Парнах, основной прототип Парнока «Египетской марки». А сам Мандельштам, как известно, купил по‑марански и незадорого свое методистское свидетельство о крещении у предприимчивого, на грани уголовного преступления, пастора Розена). Тогда полное определение «памяти» — «больная девушка‑еврейка» — это просто следующий этап развития больной еврейской памяти на пути из куколки в бабочку‑хризалиду. Что касается того, куда «заглядывает» «обсыпанная мукой капустница», то в интересующий нас период Мандельштам «заглянул» в мир‑быт, созданный Михоэлсом: «Иногда, утомившись прыжками, утомившись мудрым своим беснованием на беспредметной сцене, Михоэлс садится на пол: “Давайте прекратим игру…” Тогда это часовщик, созерцающий зубчики в лупу, это еврей, созерцающий свой внутренний мир, — совсем одинокий, с горящей свечой в руках и с выражением страдальческого восторга, как в “Колдунье”».
Но нас интересует сейчас сама образность Мандельштама в сопоставлении с соболевской. И здесь бабочка‑хризалида ничуть не менее соболевский образ, чем все приведенные выше. С одной стороны, бабочка — это еврейство, лежащее в пыли, незаметное на дороге. Оно расцвечивается лишь в тот момент, когда бабочка взлетает, когда евреи проявляют активность. Когда же она садится на землю, «пыль» снова покрывает ее крылья, и бабочка становится невидимой.
Таким образом, вся метафора «еврейской памяти» у Мандельштама достраивается до полной парадигмы.
Вот, оказывается, что стоит за «духовной жаждой» лирического героя Соболя, рассуждающего о «Габиме»! Но эту жажду грех не сопоставить с пушкинским «Пророком»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…
Достаточно увидеть здесь, как это, собственно говоря, и делали русские евреи, реального для них библейского пророка, как пустыня станет конкретной Иудейской пустыней, где вскоре окажется «Габима», побывав до этого на массе вокзалов мира во время своих триумфальных гастролей 1926 года.
Итак, к известным нам неопубликованным текстам о «Габиме» Акима Волынского «Гиперборейский гимн» и «Рембрандт», отразившимся в «Египетской марке», прибавился еще один русскоязычный текст об этом театре, «вернувшийся» в родное еврейско‑русское идишско‑ивритское «смесительное лоно» в 2015 году.



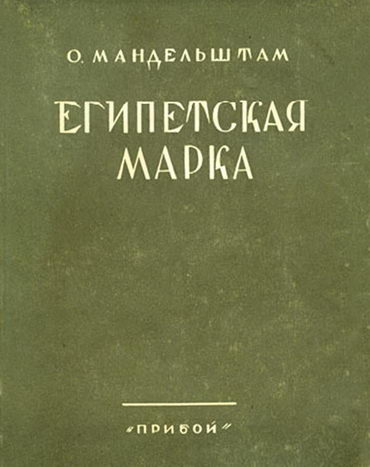



Комментарии