Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
...Какая-то ясная-ясная речка,
зеленый крутой бережок.
Приплыли к Марусеньке серые гуси,
большими крылами шумят...
Вода достает по колено Марусе,
но белые ноги горят...
Вы, гуси, летите, воды не мутите,
пускай вас домой отнесет...
От песенки детской до пытки немецкой
зеленая речка течет.
Ты в ясные воды ее загляделась,
но вдруг повалилась ничком.
Зеленая речка твоя загорелась,
и все загорелось кругом.
Идите скорее ко мне на подмогу!
Они поджигают меня.
Трубите тревогу, трубите тревогу!
Спасите меня от огня!
Допрос ли проходит? Собаки ли лают?
Все сбилось и спуталось вдруг.
И кажется ей, будто села пылают,
деревни пылают вокруг.
Но в пламени этом шаги раздаются.
Гремят над землею шаги.
И падают наземь, и в страхе сдаются,
и гибнут на месте враги.
Гремят барабаны, гремят барабаны,
труба о победе поет.
Идут партизаны, идут партизаны,
железное войско идет.
Сейчас это кончится.
Боль прекратится.
Недолго осталось терпеть.
Ты скоро увидишь любимые лица,
тебе не позволят сгореть.
И вся твоя улица, вся твоя школа
к тебе на подмогу спешит...
Но это горят не окрестные села –
избитое тело горит.
Но то не шаги, не шаги раздаются –
стучат топоры у ворот.
Сосновые бревна стоят и не гнутся.
И вот он готов, эшафот.
* * *
Хриплый лай немецкого приказа –
офицер выходит из дверей.
Два солдата со скамьи привстали,
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо: – Где ваш Сталин?
Ты сказала: – Сталин на посту.
Вдумайтесь, друзья, что это значит
для нее в тот час, в тот грозный год...
...Над землей рассвет еще плывет.
Дымы розовеют. Это начат
новый день сражений и работ.
Управляясь с хитрыми станками,
в складке губ достойно скрыв печаль,
женщина домашними руками
вынимает новую деталь.
Семафоры, рельсы, полустанки,
скрип колес по мерзлому песку.
Бережно закутанные танки
едут на работу под Москву.
Просыпаются в далеком доме
дети, потерявшие родных.
Никого у них на свете, кроме
родины. Она согреет их.
Вымоет, по голове погладит,
валенки натянет – пусть растут! –
молока нальет, за стол посадит.
Это значит – Сталин на посту,
Это значит: вдоль по горизонту,
где садится солнце в облака,
по всему развернутому фронту
бой ведут советские войска.
Это значит: до сердцебиенья,
до сухого жжения в груди
в черные недели отступленья
верить, что победа впереди.
Это значит: наши самолеты
плавно набирают высоту.
Дымен ветер боя и работы.
Это значит – Сталин на посту.
Это значит: вставши по приказу,
только бы не вскрикнуть при врагах, –
ты идешь, не оступись ни разу,
на почти обугленных ногах.
* * *
Как морозно! Как светла дорога,
утренняя, как твоя судьба!
Поскорей бы! Нет, еще немного!
Нет, еще не скоро... От порога...
по тропинке... до того столба...
Надо ведь еще дойти дотуда,
этот длинный путь еще прожить...
Может ведь еще случиться чудо.
Где-то я читала... Может быть!..
Жить... Потом не жить... Что это значит?
Видеть день... Потом не видеть дня...
Это как? Зачем старуха плачет?
Кто ее обидел? Жаль меня?
Почему ей жаль меня? Не будет
ни земли, ни боли... Слово «жить»...
Будет свет, и снег, и эти люди.
Будет все, как есть. Не может быть!
Если мимо виселицы прямо
все идти к востоку – там Москва.
Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят. Есть еще слова...
– Граждане, не стойте, не смотрите!
(Я живая – голос мой звучит.)
Убивайте их, травите, жгите!
Я умру, но правда победит!
Родина! Слова звучат, как будто
это вовсе не в последний раз.
– Всех не перевешать, много нас!
Миллионы нас!.. – Еще минута
– и удар наотмашь между глаз.
Лучше бы скорей, пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Смело подымаешься сама ты.
Шаг на ящик, к смерти и вперед.
Вкруг тебя немецкие солдаты,
русская деревня, твой народ.
Вот оно! Морозно, снежно, мглисто.
Розовые дымы... Блеск дорог...
Родина! Тупой сапог фашиста
выбивает ящик из-под ног.
Вторая половина войны была для меня годами большой и многопольной работы: лирические стихи, пьеса «Сказка о правде», поэма «Твоя победа», замысел новой пьесы – стихотворной трагедии «Первый гром».
Поэму «Твоя победа» я писала всю вторую половину войны и закончила в канун победы. Как и «Зоя», она была продолжением жизни и судьбы моего лирического героя, на сей раз не свершившего никакого подвига, а просто живущего, думающего, страдающего, отдающего себя целиком жизни и людям и вбирающего в себя все, чем живут и дышат люди. Это очень дорогая мне вещь, очень прямая, очень моя. И мне кажется, что она нужна была людям, недаром они до сих пор помнят ее, спрашивают о ней... Так для меня завершилась война и началась жизнь в мире, победившем войну, победившем фашизм. В годы войны мы представляли себе эту жизнь радужнее, праздничнее, понятнее. Все оказалось, однако, сложнее и противоречивее, и немало трудного и сложного еще предстояло встретить, понять, пережить.
Не стоит, пожалуй, перечислять книги, которые выходили, толковать о задачах, которые я себе ставила, – всегда ли их удавалось решить? Независимо от другой работы я неизменно пишу лирические стихи, которые, очевидно, являются для меня самой органичной формой мышления, самым естественным выражением моей души. Все, чем я живу, о чем думаю, все, что тревожит и потрясает меня, – все это неизбежно поздно или рано становится стихами. Лирика – это душа моя, это я сама, какая есть. В последние годы я все больше думаю о прозе, но вплотную засесть за прозу всегда мешают все те же стихи, – постоянно кажется: что-то еще недосказано, что-то еще не отпускает, держит, не дает свободы.
Государству нашему уже более шестидесяти лет. Поколение совершивших революцию и начавших строить новую жизнь и поколение, с революцией вступившее в сознательную трудовую жизнь, уже завершают свой путь. Даже мы, те, кто долго и, казалось, навсегда были самыми молодыми, – поколение ровесников Октября, – уже зрелые, пожилые, умудренные жизненным опытом люди. Собственно, теперь мы все уже сравнялись, и уже со всех нас вместе молодежь вправе спросить и спрашивает ответа на свои раздумья. Отмахнуться от ее вопросов мы не можем и не смеем, да и зачем? Ведь, в сущности, те же вопросы мы задаем себе сами. Мы многое видели, многое знаем и помним, многое любим и бережем и берегли всегда. Мы многое и, может быть, самое драгоценное, сберегли в своей судьбе, в своей душе, в своих книгах, сберегли и не уступили никаким превратностям истории... И многое еще надо постичь. Мне бы хотелось написать о нашей юности, объяснить ее сущность и неповторимость тем, кто молод сейчас, кто судит нас с высоты своей молодости.
Это было бы более точным и ясным ответом на все их недоумения и несогласия с нами, чем умозрительные абстрактные рассуждения и праздные споры.
Маргарита АЛИГЕР
1960–1984 гг.
Вениамин Каверин, Маргарита Алигер, Константин Паустовский, его сын Алексей, Виктор Некрасов. Ялта. 6 июня 1966 г.



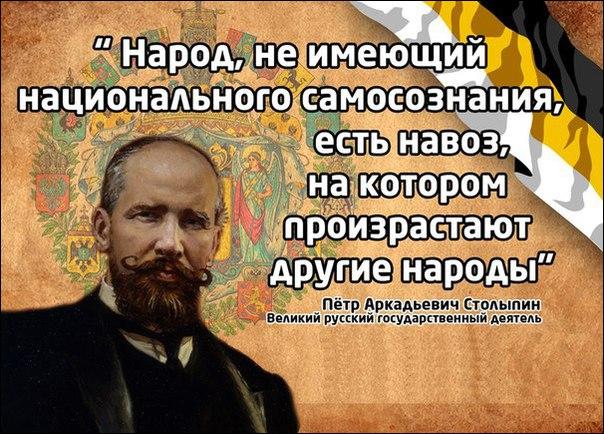




Комментарии
Как это просто и как это гениально.
Вот где дети становились ЛЮДЬМИ, а многие, как героиня этой статьи, великими.
Тебя уже вылечили или просто выпустили погулять?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Иногда надо думать, если ещё есть чем.