Социализм как религия ненависти
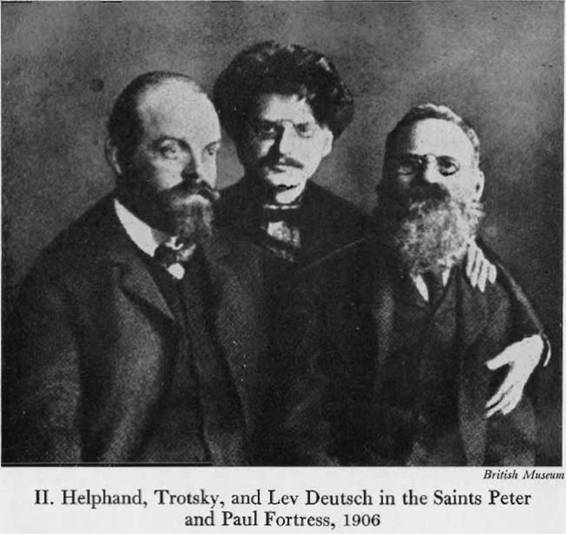
I
Нашу пресловутую революцию сравнивают с «великой» французской, и кто-то рекомендовал даже следить за ней по краткой истории, как по отрывному календарю, ручаясь за возможность прямо предугадывать дальнейшие события.
Увы, этот пророк «отгадчиком» не оказался, и наша «революция» хоть и потребовала много крови и жертв, но во французскую не выросла, а обратилась в некую политическую гнусность, закончившуюся убийствами из-за угла и экспроприациями, сначала идейными, а затем и просто разбойными.
Сходство, с сильной натяжкой, пожалуй, найдется, как всегда найдется сходство между двумя ломаемыми домами. И там, и здесь разбирают старую постройку, летит пыль, накопляется много мусора. В обоих случаях, когда процесс ломки закончится, старого здания не будет. Но на этом кончается и все сходство.
Как видите, оно чисто внешнее. Но зато, если мы обратим внимание на разницу между нашей революцией и французской, то она окажется так велика и существенна, что ни о каком сходстве не придется и говорить.
Довольно указать на два пункта. Французская революция была не только национальна, но, можно сказать, крайне преувеличенно национальна. Никакие инородцы в ней не участвовали, а вся остальная Европа шла на ее усмирение. Патриотизм самих французов был так горяч, что за одно подозрение в его недостатке господа революционеры без церемонии рубили головы.
В этом смысле наша революция является прямой противоположностью. Ее вожаки - в большинстве инородцы, вошедшие между собой в союз и предоставившие господам россиянам роль весьма второстепенную. Затем насчет патриотизма замечается тоже как раз обратное. Если бы дело дошло, помилуй Бог, до снимания голов, то таковые стали бы сниматься за проявление русского патриотизма, а уж никак не за его недостаток. Подсчитайте число политических жертв и их окраску,- и вы увидите, что это все были именно патриоты. Кто же не знает, что для нашей революции «патриотизм» - понятие весьма презренное, а «патриот» даже прямо ругательное слово? Да это и понятно. На свою национальную революцию французские патриоты несли патриотически свое, иногда последнее, достояние. Наша революция идет сплошь за чужой счет, сначала за японский, как это недавно документально доказано, затем за счет международных, точнее - еврейских денег, ибо главная задача русской революции есть все-таки еврейское равноправие, недостижимое при старом самодержавном строе. Теперь этот строй заменяется парламентарным, то есть именно тем, который нужен опять же евреям и всяким инородцам, а русским пристал, как корове седло.
Будь наша революция национальной, она прежде всего вылилась бы в форму борьбы за земщину против бюрократии. Но земщина-то именно у нас и провалилась в революционный период, как понятие чисто русское, для еврейства еще гораздо более противное, чем самодержавие. И наивен был бы тот, кто стал бы ждать от нашего парламента серьезной постановки и свободы самоуправления. Наоборот, он, если бы удался, создал бы неминуемо централистский шаблон, так бы все нивелировал и обезличил и законодательством, и всякими общеимперскими союзами, что от всей земской свободы осталось бы едва ли не одно только великое право - собираться на митинги, да и то левые, а отнюдь не патриотические.
Второе коренное отличие нашей революции,- это ее социальный характер в противоположность чисто политическому характеру революций западных. Насколько во французской революции бьет в глаза ее решительно буржуазный облик, ее домогательства устранений феодальных привилегий во имя чисто политических прав и свобод (припомним драконовские постановления о собственности, о стачках и т. п.),- настолько же наша русская революция насквозь прокрашена социалистическими вожделениями и нежеланием ни одной минуты остановиться и укрепиться на ненавистном капиталистическом или буржуазном строе.
Это последнее обстоятельство придает всему нашему «освободительному» движению совершенно своеобразный колорит и предначертывает ему путь совсем особый, где французская книжка по истории ровно ничему не поможет и ничего не уяснит.
II
Многие русские люди ломают себе голову, решая вопрос: откуда взялся у нас социализм и почему это учение в такое короткое время и так могущественно овладело умами нашей молодежи, да и не только молодежи, а даже взрослых и серьезных, по-видимому, людей, которым, казалось бы, обязательно более вдумчивое отношение к тому, что проповедуется на газетных столбцах?
Чтобы выяснить этот вопрос, от которого в значительной степени зависит то или иное отношение к русскому освободительному движению, необходимо установить сначала твердую принципиальную точку зрения на самый социализм, как на положительное учение. Смело говорим, что в широких кругах русского, так называемого образованного, общества никакой такой точки зрения не существует. Огромное большинство судит о социальных доктринах совершенно превратно, и мы не ошибемся, если этот общий расхожий взгляд выразим так:
«Социализм есть учение весьма дельное и серьезное. Но в самую глубину этой премудрости заглянуть обыкновенному смертному очень трудно, так как она окружена чрезвычайно туманной и сложной диалектикой, в которой и упражняются специалисты. Наш доморощенный социализм в его практических применениях и в популярной проповеди есть нечто весьма искаженное и изуродованное, годное, конечно, для гимназистов да совершенно отпетых и невежественных людей вроде Аладьиных, Жилкиных и К0 в первой Думе и Алексинских во второй или новоявленных кавказских выходцев, каковы, например, были пресловутые Рамишвили, Зурабовы, Церетели и т. п. Эти господа только компрометируют социализм, требуя слишком преждевременно разных несуразных вещей и притом с ненавистью и дерзостями. Но это не мешает социализму подлинному быть «учением будущего» и привести человечество к благу».
Думаем, что этим довольно верно определяется взгляд среднего грамотного русского обывателя. Если мы прибавим сюда ходячее мнение, будто существует еще какой-то христианский социализм, мирный и благостный, и что вот этот-то социализм и есть самый настоящий, мы можем на этом и закончить, большего от русской публики не требуйте. Маркса ни в подлиннике, ни в переводах она не читала, хотя усердно раскупила несколько изданий Капитала. Комментаторов и продолжателей Маркса вроде Энгельса, Каутского и прочих она знает еще меньше, а серьезных критиков и близко не видала. Все, что она читала, - это ряд популярных брошюрок, которые прежде проносились под полой, а ныне свободно продаются и раздаются безплатно и которые для несамостоятельных умственно людей представляют критику современного капиталистического строя - весьма сокрушительную и обещания будущего - самые заманчивые.
Добрая и душевная русская публика даже и не подозревает, что социализм никакой науки, никакого учения собой вовсе не представляет, - что это есть не более, как известная система диалектики, чрезвычайно утонченной и сложной, вся цена коей ломаный грош, ибо отправной пункт содержит в себе первородную ложъ; что сила социальной доктрины заключается не в ее выводах, которых и сами социалисты не сделали, не в положительных формулах людского общежития, которых никто не установил и установить не мог, а только в отрицании, опирающемся на специальное настроение отдельных ли лиц или целых общественных групп; что в социализме нет поэтому абсолютно никакой творческой стороны, а исключительно разрушительная, и что, наконец, как учение, построенное на лжи, вражде и ненависти, оно не имеет никаких иных логических выводов, кроме чистейшего анархизма, если остаться только при разрушении, или неслыханного нигде и никогда рабства, если упорствовать в праздной мечте и созидании общежития на социалистических началах.
III
Научная истина всегда объективна, ясна, сама себе равна и воспринимается разумом достаточно независимо от настроения учащего или поучаемого. Социальная доктрина для своего усвоения требует чувства, особенным образом подготовленного, которое только тогда ее не отвергнет, когда поучаемый будет заранее подготовлен звучать в унисон с учащим. Отсюда всеобщее и давнее наблюдение: социальное неравенство есть повсюду и всегда, но, чтобы социальное учение нашло восприимчивых слушателей и воспламенило массы, необходимо, чтобы общественные страдания, насилия и несправедливости перешли известную черту, за которой уже неугасимым огнем загорается ненависть слабого к сильному, бедного к богатому, глупого к разумному.
Только в такую среду социальная доктрина может с успехом бросать свои ядовитые семена.
Потрудитесь американцу Соединенных Штатов, получающему заработную плату до 2 и больше долларов в сутки и быстро накопляющему сбережения, начать развивать ту доктрину социалистов, что предприниматель-капиталист его грабит, отнимая от него «прибавочную ценность», которая ему, рабочему, принадлежит. Американец засмеется вам в глаза и решительно не будет в состоянии понять, каким образом у свободного гражданина, свободно предлагающего свой труд и назначающего ему свободную расценку, кто-нибудь может что-нибудь украсть.
Но обратитесь с той же проповедью к голому и голодному итальянцу или к русскому фабричному пропойце - и ваш слушатель развесит уши. На заманчивые перспективы всеобщего равнения имуществ американец ответит бранью, потому что у него впереди благосостояние и победа, основанная на личной предприимчивости, удаче и сбережениях. У него самого растет его небольшой капитал, который в будущем будет только удваивать его трудовые силы, и потому всякое покушение на этот капитал будет ему казаться покушением также и на него лично.
Наоборот, какой-нибудь итальянец, совершенно изверившийся в возможности выбиться из бедности упорным трудом и бережливостью и вынужденный покидать родину, чтобы идти куда глаза глядят, уверует в будущий коллективизм, как в Евангелие,
Вот почему Северная Америка, страна исключительного расцвета промышленного капитализма, является, по выражению социалистов, «страной оставления всех надежд» (для них), а Италия - истинным рассадником и гнездом социализма. Поэтому же Германия с ее твердой властью и прочным экономическим строем, хотя и прислушивается к туманной диалектике своих главарей социального движения, хотя и охотно рассуждает о нем за кружкой пива, но практически переработала самое учение так, что истинные, кровные социалисты называют германский социализм «наукой о безропотном перенесении рабочими ига капиталистов».
И это выражение необыкновенно счастливо и точно. Немецкий рабочий отлично знает, с каким колоссальным трудом и борьбой отвоевывает рынок и дает своим рабочим работу немецкий капитал и каким небольшим, сравнительно, довольствуется он вознаграждением. Он хорошо знает, что малейшее неловкое прикосновение к этому капталу отразится страшной катастрофой прежде всего на самих же рабочих. И вот господа немецкие социалисты, покуривая свои трубки, рассуждают весьма здраво, что, хотя, по Марксу, капитал им и враг, но пока что они от него кормятся; хотя милитаризм и недостойная и презренная вещь, поддерживающая буржуазный строй, но, однако, без внушительной военной силы Германия не могла бы так шагать на иностранных рынках - и потому хоть и неохотно, но все же вотируют в рейхстаге нужные кредиты на армию и флот.
А попробовали те же социалисты стать поперек дороги германскому буржуазному творчеству,- получился неслыханный разгром партии, которую на последних выборах в рейхстаг жестоко закидали черняками и сократили более чем вдвое.
IV
Так стоит дело на культурном Западе, потоками крови оплатившем всякие перевороты и революции. У дальнейших из тамошних народов - немцев и американцев - социальная доктрина, являясь всем понятным предупреждением, принесла и свою долю пользы. В Америке гигантские стачки всемогущего капитала вызвали не менее гигантские рабочие союзы, прекрасно оградившие трудящиеся массы от возможности хищнической их эксплуатации. Но увы! Об этих рабочих союзах социалисты предпочитают умалчивать, ибо они построены на чистейших буржуазных принципах и в корне противны социальному учению. Это не более как взаимное страхование мелких капиталистов в ответ на стачку крупных. Пролетарий, в этот союз не попавший, услугами его не только не пользуется, но и встречает явно враждебное к себе отношение. Подите-ка, вступите в американский рабочий союз! Это потруднее, чем в любую из наших биржевых артелей, где нужен взнос в несколько тысяч рублей.
В Германии развитие социальных учений подсказало правительству вовремя позаботиться о правовом и экономическом положении рабочих. Государство мастерски вырвало инициативу всяких разумных улучшений из рук вожаков социализма, и еще руками Бисмарка само создало прекрасное рабочее законодательство, обеспечив рабочих в их внешних условиях труда, насколько только это доступно государственной власти. Социализму в Германии остались только невинные ораторские упражнения да забастовки, производимые очень редко, тонко и осторожно.
В России, где, при ничтожном процентном отношении фабричных рабочих к общей массе населения и при землевладении всей крестьянской массы, социализму, казалось бы, совсем нечего делать, это учение волею судеб оказалось в противность всякому здравому смыслу руководителем революционного движения. Главари социализма, скрывавшиеся в подполье в то время, когда земские передовые силы выступили на борьбу со старым режимом, тотчас же после первых побед земцев вышли на поверхность и буквально сели буржуазно-либеральному течению на шею.
Не успели наши конституционалисты отпраздновать первый медовый месяц отвоеванного с таким напряжением и хитростями парламентаризма, как уже в Государственной Думе за их спиной выросли разные «трудовые группы», явились люди столько же некультурные, как и наглые, и сразу предъявили свои претензии на власть.
Никогда еще великий господин Пролетариат не выступал в мировой истории с таким умственным и нравственным убожеством и... с таким апломбом. Он не хочет считаться ни с чем. Для правительства у него нет других терминов речи, как «воры», «провокаторы», «хулиганы». Почтенных и истинно свободолюбивых людей, как покойный гражданин Гейден, он величественно именует «старыми шлепаками» (можем привести подлинную цитату из одной пугачевской газеты) и кричит им «довольно» и «долой». Милостиво-презрительно, как истинно зазнавшийся хам, относится он к перетрусившим либералам, усердно вертящим перед ним хвостом, и при малейшем серьезном противоречии дает им пинка. Пользуясь растерянностью и скудоумием власти, устраивает в России пугачевщину и готов взять за горло все ему сопротивляющееся, все культурное, спокойное, просвещенное. И при этом полное отсутствие какого бы то ни было намека на патриотизм, стремление к неслыханному самовластию, переходящему в прямое самодурство, нетерпимость, забывающую всякие границы, и насилие, насилие и кровь без конца...
Вот в каком виде довольно неожиданно появился на нашей политической сцене Российский Пролетариат, одушевленный великими доктринами социализма. Пока что перед удалью этого младенца все в ужасе расступаются, и все чувствуют основательность этого ужаса. В голосах господ Алексинских, Жилкиных, Аладьиных и иных чувствуется не их личное нахальство, а огромный, косматый, проснувшийся дикий зверь, нечто вроде древнего апокалипсического Змия, неутолимый и неукротимый, словно олицетворивший в себе все, что жило в грязном и мрачном подполье русской народной души, жило, сдавленное тисками полицейского государства, и со времен Стеньки Разина и «дедушки Емельяна Ивановича» не подавало голоса.
Теперь этот зверь рычит и выпрямляется, и мы с ужасом чувствуем, как его когти вонзились в нашу Родину. Волей-неволей приходится этому зверю заглянуть в лицо и ознакомиться с его родословной.
V
Мы сказали выше, что вся социальная доктрина основана на первородной лжи и потому ровно никакой, ни научной, ни практической, ценности не представляет. Ложь эту необходимо разобрать и выяснить истинную сущность столь властно утвердившегося у нас учения.
Один из главарей немецкого социализма, Бебель, так определил свое исповедание: «Наша цель,- сказал он,- в области политики - республика, в области экономики - коммунизм и в области религиозной - атеизм».
Если мы отстраним первый член этой формулы - республику, как взятый из чужого лексикона за неимением собственных ясных понятий о желательном типе государства, то двух остальных будет вполне достаточно, чтобы определить всю духовную сущность социальной доктрины.
Это то же христианство, но с отрицательным знаком.
Современное человечество переживает самый расцвет буржуазно-капиталистического строя. Его основы - широкая политическая свобода и широкий экономический индивидуализм, прямо из этой свободы вытекающий. Правовое государство твердо держится принципа экономического невмешательства и предоставляет личностям и их союзам устраивать свои материальные отношения как хотят, проявляя активную власть единственно ради поддержания общественного порядка, охранения свобод и дарования минимальной обязательной справедливости во внешних отношениях своих граждан.
Вправо от этого строя начинается область религии, которая в лице христианства усиливается побороть старое юридическое и языческое государство и построить жизнь людей на иных, высших началах. Церковь, не отрицая государства и не борясь с ним (Кесарево Кесареви), старается воспитать и вознести души людей так, чтобы, оставаясь в прежних материальных и юридических условиях, люди перестали их ценить и смотреть на них как на высшее благо, ища такового не здесь, на земле, а за гробом. Христианин должен поэтому относиться совершенно безразлично и к своему имуществу, и к своим правам, и ко всей земной обстановке. Последняя должна быть ему ценна лишь постольку, поскольку дает возможность совершать дело любви, то есть помогать благополучию своих ближних. А так как дело любви возможно при каких угодно политических и экономических условиях, то с христианской точки зрения нет ни оправдания, ни осуждения никаким общественным и государственным формам. Всякий строй для него приемлем, поскольку в нем возможно «тихое и мирное житие», ибо только это с христианской точки зрения и требуется от государства. Остальное дадут личный подвиг, личный духовный подъем и самосовершенствование христианина. И в этом смысле все общественные деления, например сословность, все неравенства состояний, даже рабство, для христианства одинаково приемлемы, как и наисвободнейшее общественное и политическое устройство. Любовь все сгладит и восполнит, Христос всех уравняет и даже сделает первых последними, а последних первыми.
И эта вера в могущество высшей небесной правды составляет такое сильное орудие христианства, что совершенно исключает всякую зависть бедного к богатому (богатый несчастнее, ибо ему труднее войти в Царство Небесное), всякую ревность подвластного к властвующему (сознание величайшего бремени ответственности) и делает из истинно христианского общества и народа единый целостный организм, сознающий и свое братство во Христе, и свое полное духовное равенство, даже с некоторыми привилегиями для кротких, милостивых и нищих духом, то есть для наиболее обездоленных общественных слоев.
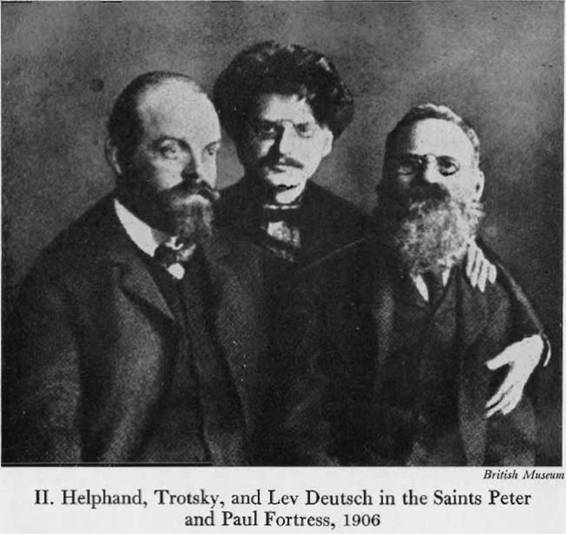






Комментарии
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Я полагаю, он был не дурак. По крайней мере, кроме вас, никто подобного о нем не говорил. Что какбэ наводит на мысли ...
Что ничуть не мешало ему быть умным и вполне правым во многих иных вопросах.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну да и бог с ним, с С.Ф.Шараповым, в прямом и переносном смыслах. Не в нем дело, мне, кстати, тоже текст показался несколько скушным, без огонька, чисто Маркс и его друг Фридрих.
Меня всего-навсего ваше безапелляционное отношение чуть-чуть задело. Чуть-чуть. Вы же не меня дураком обозвали, правда? Тогда-то бы я ого-го!
P.S. И в заключение хотелось бы процитировать других классиков: "У состоявшегося человека страничка должна быть не в "Одноклассниках" или "Вконтакте" - а в "БСЭ" или "Википедии".
Комментарий удален модератором
Статья написана о революции 1905 года....
"(по изд.: Шарапов С. Ф. Социализм как религия ненависти.- М.: Тов. типо-лит. И.М. Машистова, 1907. - 16 с.)
Потом ещё много чего было....
ЗА СОЦИАЛИЗМ! (демократический)
ЗА СССР!
:)!
Кстати, почему то в христианстве православные патриоты еврейский след упорно не замечают.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Опять преклонение перед Западом - французская революция - такое же преступление как и большевистская. А большевистскую революцию называть РУССКОЙ сложно. Скорее АНТИРУССКАЯ! И в этом автор прав!
Комментарий удален модератором
Где в Библии похвала индивидуализму и личному успеху? Где в Библии обоснование необходимости частной собственности на средства производства, со всеми вытекающими?
Ну, а это вообще, песня – « Церковь, не отрицая государства и не борясь с ним (Кесарево Кесареви), старается воспитать и воз¬нести души людей так, чтобы, оставаясь в прежних материальных и юридических условиях, люди перестали их ценить и смотреть на них как на высшее благо, ища такового не здесь, на земле, а за гробом».
Люди, вы что здесь делаете? Идите в храм, замаливайте грехи, пробуждайте в себе Любовь к врагам (видимо к классовым). Когда помрете, вам воздастся.