«Не всё, что тебе пришло в голову, — замечательно, не всё, за что тебя отругали, — плохо»
Александр Адабашьян: «Не всё, что тебе пришло в голову, — замечательно, не всё, за что тебя отругали, — плохо»
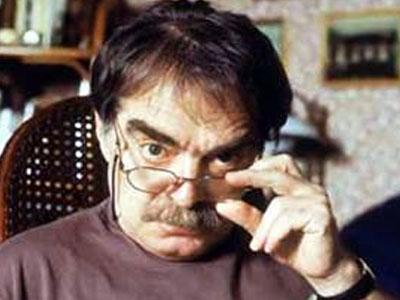
— Почти четверть века прошло с тех пор, как мы познакомились: помнишь, я из Парижа привёз тебе книгу от твоей подруги Маши Мериль, известной французской актрисы, урождённой княгини Гагариной. Тогда на Международном кинофестивале в Каннах ты получил специальный приз за режиссёрский дебют «Мадо, до востребования». Приз назывался «Перспектива французского кино».
— Да, что-то в этом роде, да.
— Именно так. Поэтому и возникает вопрос: почему эта «французская перспектива» так и не получила в твоём лице своего развития?
— На этот вопрос есть несколько ответов. Во-первых, я себя режиссёром в принципе не считаю: потому что полагаю, что это не профессия, а склад характера. А склад своего характера я считаю не подходящим для этого занятия. А во-вторых, то, что фильм «Мадо, до востребования» тогда всё же случился, вообще, цепь случайностей. Это были те годы, когда здесь приличной работы не было. И сейчас её очень мало, а тогда не было вообще, — по специальности, я имею в виду, в кино. Мне предложили написать сценарий, экранизировать французскую книжку Симоны Арез «Мадо». Книжка занятная, такой незадачливый монолог почтальонши из маленькой деревеньки, засыхающей в ожидании любви. До того, как я начал писать сценарий, мы были в очень хороших отношениях с авторшей этой книги, даже поехали в деревеньку, которая описывается там. (Там же мы и снимали.) Но потом, когда я написал сценарий, отношения с ней ухудшились, потому что как автор она полагала, что экранизация — это просто аккуратное переписывание страниц книги с последующим их воплощением на экране, опять же под контролем автора. А поскольку это был сплошной монолог, то пришлось очень многое «перепридумать». Всё действительно ушло далеко от оригинала, продюсеры были крайне смущены, тем более что авторша усиленно свою точку зрения внедряла, и мне для того, чтобы их убедить, пришлось разыгрывать целые сцены и рисовать, показывать, как это будет выглядеть. Ну и, в конце концов, возникла у них идея: «А почему тебе тогда самому не снять, если ты прекрасно понимаешь, как это надо делать?» Изрядная порция адреналина! Такой опыт — снять первую в жизни картину во Франции, на французском языке, про французскую деревню, о которой я почти ничего не знаю. Я и про русскую-то мало чего знаю (смеётся). Ну, вот так вот всё это и состоялось.
— Значит, из-за этих отношений ты и оставил свою режиссёрскую карьеру без перспективы?
— Да, в этом смысле, фильм остался без продолжений. Хотя и с ним как-то создалась смешная ситуация. Когда в США проходил фестиваль французского кино, то они отобрали двенадцать лучших с их точки зрения картин, в том числе и «Мадо», и я оказался, по мнению организаторов этого фестиваля, одним из двенадцати лучших французских режиссёров. Причём во всёх списках оказывался — по алфавиту — первым.
— Тебя это не убедило?
— Нет, меня это не убедило ни в чём. Потому что у меня были и остались собственные убеждения по многим поводам, в том числе и по поводу самого себя. Вот на этом моя режиссёрская карьера и закончилась.
— Скажи, а тебе часто приходится беречься? Совпадаешь ли ты с ритмами современной жизни?
— Нет, с ритмами я никогда не совпадал. Во-первых, я патологически ленив. Понимаю, что это очень плохо, но часто мне приходится буквально себя заставлять. Утром думаю: чего бы меньше всёго хотелось сделать, вот этим и надо заняться. А так как вообще меньше всёго хочется делать что бы то ни было, то и приходится заставлять себя «всё, что ни было» — делать. Таким образом, значит, существую в вечной борьбе, как говорили в армии, — «до обеда с голодом, после обеда со сном».
— Скоро очередной юбилей, как её называют, культовой картины «Свой среди чужих...», в следующем году сорок лет, дай Бог. Ваша творческая компания: Михалков, Артемьев, Адабашьян продолжают творить вместе…
— Нет, ну ещё был Павел Лебешев, ещё был Александр Самулекин…
— Да, с потерями...
— С большими потерями.
— В данном случае имею в виду фильм «Солнечный удар», съёмки которого идут сейчас к своему завершению. Ты в этой истории — соавтор сценария и актёр. Расскажи, как идёт работа?
— Ну, соавтором сценария я бы себя не назвал, я бы сказал, что я участник сценария, потому как в тот момент, когда Никита меня попросил к этой работе подключиться, сценарий уже был написан. Другой разговор, что они ещё его не выправили и не подшлифовали. Этому помешали печальные обстоятельства, связанные с внезапным уходом из жизни сценариста Владимира Моисеенко. Так что я подключился в тот момент, когда уже многое было сделано, и самое главное, была придумана концепция всей этой истории.
Так что и в титрах напишусь — «при участии», да и себя так и воспринимаю. Ну и плюс сыграл в эпизоде, кстати говоря, вместе с композитором Эдуардом Артемьевым. Мы там изображаем фотографа и его ассистента.
— Время неумолимо летит. А в чём принципиальное отличие твоих ощущений от тех, что были сорок лет назад в работе с Михалковым?
— Принципиальное ощущение, что сорок лет назад нам было около тридцати. Вот, я думаю, что изменилось…
— Вы понимаете теперь друг друга с полувзгляда?
— Ну, в общем-то, мы даже тогда понимали. Я помню, что когда мы занимались, в первый раз вместе писали серьёзный сценарий («Механическое пианино»), то он вырос из того, что понимание Чехова было на уровне интуиции. Нельзя было объяснить, почему нравились одни и те же вещи. Вербализовать это никак не получалось — да и не хотелось. всё шло исключительно по линии чувства. Если совпадаешь по этой части, если тебе эмоционально, чувственно, вкусово нравятся одни и те же вещи и не нравятся одни и те же, то значит, можно работать вместе без объяснения на каждом шагу, почему это хорошо, а это — плохо.
— У тебя очень много ипостасей: и художник, и актёр, и режиссёр, хоть ты и сопротивляешься, и драматург, и писатель… Какая для тебя из них является сейчас главной?
— В данный момент, наверное, художник. Потому что мы с Аней Чернаковой сейчас заканчиваем картину. Она, вернее, уже заканчивает, я там автор сценария и один из художников. Помимо этого, мы написали сказку — тоже вместе с ней.
— Да, и стали лауреатами III Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова. «Лучшее художественное произведение для подростков» — так называется премия?
— Да, совершенно верно. И вот сейчас сказка издаётся. Она уже издана была в серии «Лауреаты конкурса» в издательстве «Астрель», а на следующем этапе будет выходить там же, но уже в самостоятельном виде с большим количеством иллюстраций и в другом макете.
Я сейчас буду этим заниматься, поскольку там всё-таки довольно много картинок надо рисовать.
— Значит, всё-таки и сценарист, и художник, и писатель?
— Ну опять же, такие всё громкие слова «писатель», «художник» я к себе как-то не прикладываю, хотя у меня это «художник» написано в дипломе, автор книжки тоже может называться писателем, твой текст набран печатным шрифтом...
— Да — да.
— Но чтобы действительно мне
не вообразить себя ни тем ни другим, я периодически хожу в Третьяковскую галерею и успокаиваюсь. Потом читаю хороших писателей, классиков, в частности, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, к примеру. Читаешь несколько страниц и тоже как-то умиротворяешься. Кино хорошее посмотришь… Ну, в общем, много есть возможностей.
— Быть скромным?
— Не то чтобы быть скромным. Ведь «скромностью» обычно называют, когда ты занижаешь своё достоинство. То есть объективно они высокие, а ты вот вроде как, опуская кокетливо глазки и ковыряя носочком ботинка песок, говоришь: «Да куда уж я? Да что уж…»
— А это адекватность?
— Да. Это просто реальное отношение к себе и к своим способностям, что, кстати, очень помогает и в работе. Не всё, что тебе пришло в голову, — замечательно, не всё, за что тебя отругали, — плохо. Возможно, это вызвано исключительно завистью и некомпетентностью того, кто говорит.
— Скажи, пожалуйста, вот мы начинали разговор с перспектив французского кино, которому ты для себя не дал шанса, а что ты думаешь о перспективе российского?
— Когда меня спрашивали во Франции, в Италии: а как дела у вас с кино? Я говорю: представьте себе, что рухнуло 10-этажное здание, а вы спрашиваете: как там квартирка была на шестом этаже, такая симпатичная, там была, как она там? Она там же, где и всё остальное — образование, медицина. Я думаю, такая же история с промышленностью, во всяком случае, с лёгкой и с пищевой. Даже те продукты, которым из практических соображений присвоили в какие-то стародавние времена названия, ну там — «Вологодское масло», то эти бренды остались от советских времён. А производится всё это на «Данон», «Нестле». То же самое — наше кино. То же самое. Мы тоже производим поп-корн, даноны, нестле, только всё это из чужого сырья, вместо того, чтобы производить собственный продукт из собственной ржаной муки, собственного вологодского масла, чтобы иметь тот вкус, который подразумевался. Вместо этого всё делается из соевой муки и пальмового масла и называется по-русски, но всё равно, продукт получается другого вкуса, и вышло уже огромное количество людей, к этому привыкших.
— Знаешь, вот так же Виктор Степанович Черномырдин говорил, что как мы ни пытаемся построить новую партию, а всё равно получается КПСС.
— Совершенно верно, у меня по этому поводу есть другая история. Отец мой вырос в небогатой семье и в тяжёлое время. И была семья довольно многодетной. И когда готовилась курица, у каждого была своя любимая часть. У него самой любимой была шейка куриная. И поэтому, когда за столом происходил делёж, никаких скандалов не было, он ел свою шею и был очень доволен. А когда он был мальчиком лет двенадцати, его угощали где-то в гостях. Он попросил себе шейку, ему сказали, что, к сожалению, шейки нет, попробуй ножку. Он очень расстроился. Но, съев ножку, понял, что его бабушка на самом деле была умна и практична. Для того чтобы дети не ссорились за столом, она каждому внушила, что кто-то любит ножку, кто-то крылышко, кто-то шейку, кто-то белое мясо. И скандалов не было. И вот так же, как нашему зрителю внушили, что он любит косточки обгладывать, а белое мясо ему совершенно не нужно, ему это даже вредно, он это не любит. Это то же самое, чем занимается, допустим, наше телевидение, внедряя свой иностранный «репертуар».
— А ты вообще следишь за премьерами?
— За телевизионными — нет, я не смотрю премьеры этих сериалов, потому что иногда, когда прыгаешь по каналам в поисках чего-то конкретного, такое ощущение, что по всем каналам идёт один сериал: кто-то в кого-то целится, кто-то уже в кого-то попал, а там уже труп волокут, а там сидят бандиты и рассуждают, кого ещё надо «завалить». Да и следователи не всегда честные попадаются… В общем, как будто ты прыгаешь, смотришь по разным каналам, а идёт одно и то же. То же самое эти юмористические передачи, которые чуть попозже начинаются. А ночью уже идут передачи для тех, кто любит не только шейку, а ещё там…
— Белое мяско.
— Правильно. Ночью уже можно посмотреть в неформатное время неформатные с этой точки зрения передачи, и там всегда бывает что-нибудь потрясающе интересное.
— Скажи, пожалуйста, отталкиваясь от названия нашего журнала, — а кто для тебя «свой»?
— Свой? Это семья в самом широком смысле слова. То есть дети, внуки, коих у меня шестеро. Ну, наверное, перечисленные тобой в начале нашего разговора люди, с которыми я работал, работаю. Те, с которыми, в общем, у меня нет никаких принципиальных разногласий. И даже те, с которыми у меня разногласия есть, но с которыми при этом можно общаться. Таких, к сожалению, всё меньше и меньше, потому что разделение нас на «свой — чужой», к сожалению, коснулось всего. Так что, увы, раньше «своих» было значительно больше. Неприятно, что, имея разные взгляды, раньше можно было с людьми совершенно спокойно общаться, как это было в давние времена между западниками и славянофилами. Ну, думаем по-разному, ну что ж, воевать, что ли? А сейчас это доведено просто до грубейших, хамских оскорблений, в основном анонимных в Интернете. Одно время запретили анонимки, помню, было такое — не рассматривать анонимные письма вообще, выбрасывать сразу.
— Да, это при советской власти.
— Ну вот, а сейчас только заикнись об этом, значит, надо вообще весь Интернет прикрыть. Потому что это — сплошь анонимные помои.
— В Китае сейчас вообще принят закон, что все пользователи Интернета обязаны быть со своими реальными именами, а не «никами», иначе будут неприятности.
— Ну вот, а у нас только заикнись, — сразу скажут, что это — цензура, потому что очень многие этой хамской анонимностью живут, самоутверждаясь, как в рассказе Чехова: некий господин с удовольствием писал письма литераторам и драматургам, получая от этого колоссальное удовольствие: «А не думаешь ли ты, подлец…»
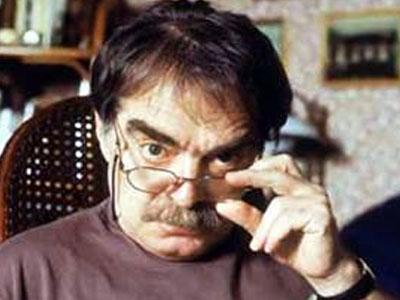






Комментарии
Согласна во всем!