НАГЛОСАКСЫ, или «Англичанка гадит»
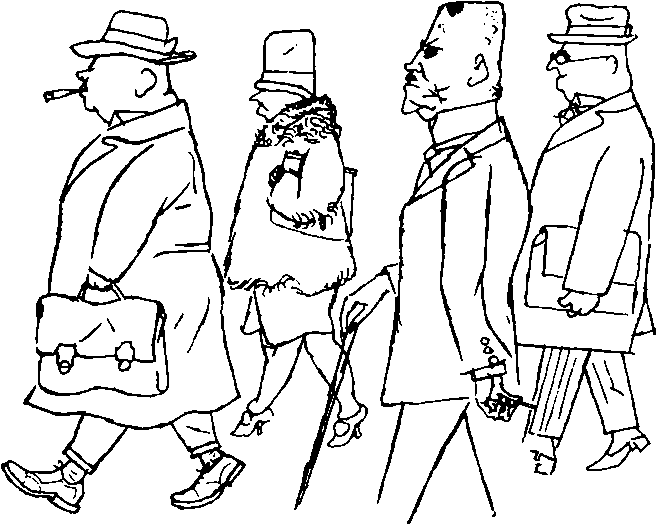
Через два месяца после утверждения «Варианта Барбаросса», 17 февраля 1941 г. на совещании верховного командования в ставке Гитлера был принят план, согласно которому вермахт должен был пройти через Балканы, Ближний Восток, Турцию и Иран в Афганистан, чтобы затем, преодолев Гиндукуш, вторгнуться в Индию. В принятом документе было зафиксировано, что целью операции должно было стать соединение наступающих частей вермахта с передовыми японскими частями на восточных границах Индии. А буквально накануне нападения на СССР, 11 июня 1941 г. Гитлер подписал Директиву № 32, придав описанному выше плану статус плана дальнейших действий. Директива так и называлась – «Подготовка к периоду после осуществления плана “Барбаросса”», хотя слово «план» здесь также не совсем уместно, но так, увы, по укоренившейся традиции переводят.
И если, зная об этом, вернуться обратно в 1939 г., то едва ли покажется случайностью, тем более в сопоставлении с фактом такого красноречивого заказа П.Краснову, что уже 3 ноября 1939 г. в германский генштаб поступила докладная записка «Политика и ведение войны на Ближнем Востоке».[11] Ее автором был являвшийся офицером по особым поручениям при начальнике штаба Верховного командования вооруженными силами (ОКВ) генерале В.Кейтеле[12], прозванный Лоуренсом Афганским специалист по Ближнему и Среднему Востоку, полковник германской военной разведки Оскар фон Нидермайер. Суть его записки была сосредоточена в предложении совместно с СССР нанести удар по Британской империи через Кавказ. О.фон Нидермайер предложил также в целях сковывания английских войск в Индии и недопущения их переброски в метрополию, поднять восстание пуштунских племен в Афганистане. Поразительно, но после недолгого рассмотрения, план Нидермайера был одобрен германским генштабом.
Начальник оперативного отдела штаба ОКВ генерал Альфред Йодль в своем докладе от 6 января1940 г. указал, что в Афганистане необходимо все усилия направить на разжигание мятежа пуштунских племен с целью создания угрозы Индии. А.Йодль подчеркнул, что основная цель – недопущение переброски английских войск из Индии на Британские острова.[13]
Что на самом деле явилось основанием для возникновения такой идеи у Нидермайера, непонятно до сих пор. Никакие известные на сегодня данные (как советские, так и иностранные) не дают ни малейшего основания даже для предположения о том, что-де со стороны СССР мелькнула хотя бы тень намека на что-либо подобное. Тем более по состоянию на 1939 г. И единственное, что остается допустимым в плане предположительного объяснения этого факта, состоит в следующем. Прежде всего, необходимо вспомнить специфический образ военно-геополитического мышления представителей ближайшего окружения известного германского генерала Г.фон Секта, в число которых входил и О. Нидермайер. Выше об этом уже не раз говорилось, но, увы, в связи с особой важностью исследуемого вопроса, придется повторить. С начала 20-х гг. прошлого века его суть состояла в следующем: «В данный момент русской армии не существует и, может быть, еще долгое время она не будет существовать. Однако военная мощь измеряется не только числом, качеством, силой и вооружением воинских частей. Она складывается из географических, стратегических и экономических факторов в единое целое, которое зависит также от численности населения и обширности территории. Страна, численность населения которой втрое превосходит численность нашего, потенциальные ресурсы которой беспредельны, страна, которая простирается от Балтики до Тихого океана и от Черного моря до Северного Ледовитого океана, будет играть в будущей мировой войне важнейшую роль. Тот, кто будет действовать против нее, натолкнется на трудно преодолимые препятствия. Кто будет с ней – до бесконечности расширит свое поле действий и свои возможности выступления во всех уязвимых пунктах земного шара. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы в будущих реваншистских войнах СССР был нашим союзником. Если он не будет нашим союзником, то, прежде чем свести счеты с Францией, мы должны победить его, что потребует длительных и дорогостоящих усилий».[14]
То, что здесь упомянута Франция - не должно смущать. В те времена германские генералы буквально кипели особо дикой злобой именно против Франции, как одной из стран-победительниц в Первой мировой войне, более всего унизившей поверженную Германию. Однако те же германские генералы прекрасно знали, что за спиной Франции стоит Англия. Так что эта злоба распространялась и на Коварный Альбион. Соответственно, если подставить на место Франции Англию в конце этой цитаты, или просто добавить Англию, то получим исходный постулат, танцуя от которого Гитлер впоследствии формулировал свои экспансионистские претензии на мировое господство: «Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России, но и наоборот: политику завоевания колоний и усиления своей мировой торговли Германия могла вести только с Россией против Англии».[15] Все это сыграло колоссальную роль в англо-германских интригах вокруг миссии Р.Гесса в мае-июне1941 г.
Второе, что обязательно необходимо принять во внимание, исходя из тематики заказа П.Краснову, состоит в следующем. Выходит, что уже осенью 1939 г. (не исключено, что еще в ходе польской кампании), в высших политических и военных кругах Третьего рейха уже задумались над стратегией войны против Англии, военная, экономическая и политическая мощь которой чрезвычайно сильно зависела от ее колониальной империи. И, следовательно, уже тогда в качестве одного из решающе ключевых архимедовых рычагов грезившейся германскому генералитету и высшему руководству Третьего рейха победы над Англией была поставлена задача эвентуального (превентивного) уничтожения ее колониальной империи, как основного источника ее могущества. Причем, и это чрезвычайно характерно, удар предполагалось нанести в самое сердце Британской колониальной империи – по Индии, но с афганского плацдарма. Да еще и при участии СССР. А тут нелишне будет учесть и то обстоятельство, что в Германии хорошо был известен резко антизападный, прежде всего, антибританский настрой советского руководства, как бы по наследству перешедший Кремлю от царской России. Настороженно-подозрительное, а нередко едва скрываемое враждебное отношение к Англии издавна является более чем обоснованной особенностью отношения России к этому островному государству. Уж слишком часто, на протяжении не одного столетия Англия запредельно убедительно, многократно доказывала свою исключительную, принципиально злобную геополитическую враждебность по отношению к России, что, естественно, не могло не вызвать соответствующей ответной реакцией. Апофеозом этой реакции уже в XIX в. стало крылатое, до сих пор находящееся в употреблении выражение - «англичанка гадит» и прекрасное, сугубо геополитическое по содержанию четверостишье гения русской поэзии А.С.Пушкина:
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон[16]
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Корни этой глубоко взаимной, мягко выражаясь, неприязни уходят в глубь веков, когда началось ожесточенно свирепое противостояние и противоборство между Англией и Россией. Прежде всего, по объективным причинам, главная из которых колоссальная, абсолютно непреодолимая (для Англии, а ныне даже и для США) разность геополитических потенциалов двух империй. Ее суть проистекала из возникших с XVI-XVII вв., а с XVIII века окончательно утвердившихся особенностей специфического геополитического статуса России. Ведь с указанного времени она является единственной в мире подлинно трансконтинентальной единой евразийской державой, обладающей выходами, а также подходами к выходам практически ко всем основным морям и океанам. Как говаривал еще Петр Великий, имея в виду именно геополитический статус своей империи, «природа сотворила Россию одну единственную. У нее соперниц нет».[17]
Вторая причина – из числа главных - состояла в объективном стремлении России получить выход в Мировой океан, в том числе и с южного направления, что способствовало бы установлению межгосударственных отношений с южными, юго-восточными и другими азиатскими странами, а также налаживанию торговых и торгово-экономических связей с ними. Такая политика России веками встречала ожесточенное сопротивление Англии, основные колонии которой как раз и были сосредоточены в этих регионах планеты, особенно в Азии, в том числе и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем и Среднем Востоке. Не говоря уже о том, что подобное стремление России серьезно подрывало основы одного из столпов Британской империи как таковой – многовековое морское господство Англии. Все это хорошо известно по истории.

Однако когда наступила эпоха железнодорожного транспорта, противоречия между двумя империями обострились до предела. Причины были все те же – геополитические. Вот как они оценивались в самой Англии. Классик британской геополитики Генри Роулинсон в свое время отмечал: «Еще поколение назад казалось, что пар и Суэцкий канал увеличили мобильность морских держав в сравнении с сухопутными. Железные дороги играли, главным образом, роль придатка океанской торговли. Но теперь трансконтинентальные железные дороги изменяют положение сухопутных держав, и нигде они не работают с большей эффективностью, чем в закрытых Центральных районах Евразии...[18] Разве не является осевым регионом в мировой политике этот обширный район Евразии, недоступный судам, но доступный в древности кочевникам, который должен быть покрыт сетью железных дорог?.. Россия заменяет Монгольскую империю... Да и никакая социальная революция не изменит ее отношения к великим географическим границам ее существования».
[19] А ведущие специалисты Британского Королевского института международных исследований в своем докладе «Политические и стратегические интересы Соединенного королевства в 1939 году» (опубликован в марте 1939 г.) пошли еще дальше. Оценивая факт бурного железнодорожного строительства в России в последней трети XIX в., особенно Транссиба, следующим образом: «Постройка Транссибирской железной дороги была политическим событием большого значения. Она глубоко затронула отношения между великими державами Европы. В первую очередь она дала возможность России в своей дальневосточной политике избавиться от того морского контроля, который, в конечном счете осуществляла Англия над европейскими континентальными державами благодаря своему решающему превосходству на море. Со времен Трафальгарской битвы морская гегемония Англии в восточной части Атлантического океана и в Средиземном море не подвергалась угрозе. Англия была последним арбитром в конфликтах, возникавших по вопросам колониальной политики других европейских наций. Одна только Россия, имея свободный доступ в Азию по суше, получала возможность избавиться от британской гегемонии, но до проведения транссибирской магистрали ее продвижение было только возможностью. Поскольку главные средства сообщения России с ее дальневосточным побережьем осуществлялись морем, и поскольку она зависела от морского транспорта, она вынуждена была подчиняться английскому морскому могуществу, также как Франция и Германия. Это положение изменилось тогда, когда на широких пространствах Азиатской России стали появляться железные дороги:
во-первых, Транскаспийская (на самом деле Закаспийская – А.М.) железная дорога, которая протянулась до персидской границы и вызвала у британских государственных деятелей “нервозность” в связи с безопасностью Британской Индии;
во-вторых, Транссибирская, которая протянулась до берегов Тихого океана, в ближайшем соседстве с Китаем, Кореей и Японией.
Эта военная и политическая угроза для британских интересов в Китае заставила Великобританию к концу последнего десятилетия XIX века искать военных союзников против России. Мысли Чемберлена[20]обратились к Германии. В речи, произнесенной 13 мая 1898 года, он говорил о возможности англо-германского союза, подчеркивая необходимость защиты британских интересов в Китае. Когда из попыток заключить англо-германский союз ничего не вышло, взоры Великобритании обратились к Японии и 30 января 1902 г. был заключен англо-японский союз».[21]
Проще говоря, Англия была взбешена тем, что в результате описанных выше событий триаде принципов ее внешней политики был нанесен объективно смертельный удар. Ведь эта триада символизировала собой казавшиеся незыблемыми в веках «вечные интересы» Великобритании.
А «вечные интересы» Великобритании к тому времени уже не один век укладывались в прокрустово ложе пресловутых:
- принципа соблюдения «равновесия сил» («баланса сил»), особенно на Европейском континенте, что даже самими английскими политологами расценивается как принцип агрессии;
- принципа недопущения господства какой-либо великой державы на подступах к Индии, на сухопутных и морских коммуникациях, ведущих из Европы в Индию (и обратно);
- принципа сохранения британского господства на морях.
В представлении Англии никогда не было ничего опасней, чем хотя бы всего лишь глухие намеки на посягательство на эти принципы. И едва только в различные эпохи до британских ушей докатывались хотя бы даже невнятные намеки на нечто подобное, то не вникая в то, насколько это соответствует истинному положению дел, безудержно, как отмечал в одном из своих стихотворений Р.Киплинг, вскипал дух английский. И далее Англия начинала творить подлость за подлостью, коварство за коварством, войну за войной. Потому как даже глухие, даже на уровне затихающего эхо намеки автоматически воспринимались как непосредственная угроза самому существованию Великобритании, в том числе и самому «сердцу» Британской колониальной империи – Индии. И в таком случае Лондон уже ни перед чем не останавливался, пуская в ход любые, самые грязные, самые подлые, самые бесчеловечные методы. Особенно войны. А уж против России – прежде всего. Сколько их на совести Англии – не счесть ведь! А тогда, практически сразу после окончания строительства Транссиба в самом начале XX в. была спровоцирована война Японии против России, в которой последняя потерпела поражение и получила «первую русскую революцию».
Особенно характерно, что из всего железнодорожного строительство еще царской России британские аналитики особо выделили геополитические последствия строительства именно Транссиба. Увы, но тут они не ошиблись. Именно Транссиб глобально, но объективно, а, самое главное, мирным путем подрывал мировое морское могущество Великобритании.[22] Но не менее примечательно и то, что в аналогичном ракурсе в докладе была упомянута и Транскаспийская или, как она на самом деле называлась, Закаспийская железная дорога, которая действительно протянулась до персидской границы и вызвала у британских государственных деятелей “нервозность” в связи с безопасностью Британской Индии.
Как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. К моменту начала описываемых событий еще и кайзеровская Германия «подоспела» со своей дорогой «трех “Б”». Тем более что она проходила через Балканы, которые Англия издавна считала, а со времен постройки Суэцкого канала еще более укрепилась в такой точке зрения, ближайшим подступом к своей колониальной империи в Азии, особенно к Индии. Эта дорога также вплотную подходила к персидским границам и вызвала у британских государственных деятелей не меньшую “нервозность” в связи с безопасностью Британской Индии.[23] В результате обстановка в мире накалилась до того, что громыхнула Первая мировая война ХХ века, роль Англии в разжигании которой трудно переоценить. В итоге, приказали долго жить четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.
Однако вопреки всем планам Запада, особенно его англосаксонского ядра и его британской сердцевины, с Россией вышло вовсе не так, как было запланировано. Призванная только разрушить Российскую империю и расчленить ее на ряд небольших псевдогосударственных образований, которые Запад мог бы взять в экономическую утилизацию, «революция» в России очень быстро была национализирована в глобальном масштабе. И несмотря ни на какие идеологические и иные, в том числе, увы, и кровавые фокусы, была поставлена на службу всем ее народам. Ну а уж когда началось строительство социализма в отдельно взятой стране и тем более, когда первая пятилетка несмотря ни на какие перегибы и иные трудности успешно завершилась, то Запад и вовсе решился на самое чудовищное:
- осатанев от осознания того факта, что уже с1932 г. ровно половина мировых экономических центров контролировалась Советами,
- озверев от многочисленных провалов предпринимавшихся в 20-е - начале 30-х гг. попыток расправиться с непокорной, ставшей к тому времени Советским Союзом Россией,
- буквально истекая черной желчью лютой ненависти по поводу непрерывно росшего авторитета СССР в мире,
Запад призвал на помощь «рожденных в Версале»[24] нацизм и его главаря Адольфа Гитлера.
<…>
У Лондона особую тревогу вызывали не прекращавшиеся с самого момента появления Ленина и Кº у власти в России их потуги так или иначе прорваться в Афганистан и особенно в Индию под лозунгом «освобождения народов Востока». В Лондоне хорошо помнили агрессивную вылазку Ленина и Кº в Персию и попытку установить там Советскую власть, не менее идиотский призыв Троцкого направить в Индию многотысячный кавалерийский корпус для освобождения индийский крестьян от британского колониального владычества, успехи ранней советской дипломатии в Афганистане, более чем «странные», мягко выражаясь, советские экспедиции в Гималаи и на Тибет под прикрытием знаменитых Рерихов, которыми руководил хорошо известный за рубежом экстремист Яков Блюмкин, разведывательная, дипломатическая и коминтерновская активность СССР в Китае и многое другое. Фактически с момента захвата большевиками власти в России, но более всего с1919 г. британская разведка и особенно ее филиал - Индийская политическая разведка – находились в состоянии высшей активности, непрерывно отслеживая все действия Советов, Коминтерна, Германии и т.д.
Да и центральный аппарат МИ-6 мух также не ловил, а упорно занимался своим непосредственным делом. Одновременно нет ни малейшего сомнения и в том, что в Лондоне прекрасно помнили и о попытках еще кайзеровской Германии пролезть в этот же регион, о действиях соответствующих кругов уже Веймарской Германии проникнуть туда же, в том числе и при помощи Советов. При этом сильнейшее беспокойство у Лондона вызывала особо устрашавшая его перспектива формирования трансконтинентального евразийского блока по оси Берлин-Москва-Токио. В Лондоне почему-то всерьез относились лишь только внешне объективным предпосылкам к возникновению такого блока. По мнению Лондона, существовавшие якобы еще с царских времен, а затем реинкарнированные уже в советские времена предпосылки, возродившись в 20-е гг. прошлого столетия, инициировали новый виток серьезных угроз Великобритании и Британской империи.
1 сентября1939 г. грянула Вторая мировая война, которую Великобритания с огромным усердием инспирировала, готовила и провоцировала против СССР, но первой же (вместе с Францией) и оказалась втянутой в ее кровавый водоворот, хотя именно о таком повороте событий Сталин официально предупреждал Англию еще в конце марта1935 г. Не зная как вывернуться из такого положения, Англия пошла на тайные сепаратные переговоры с Берлином.
Отрывки из книги А.Б. Мартиросяна о «22 июня».
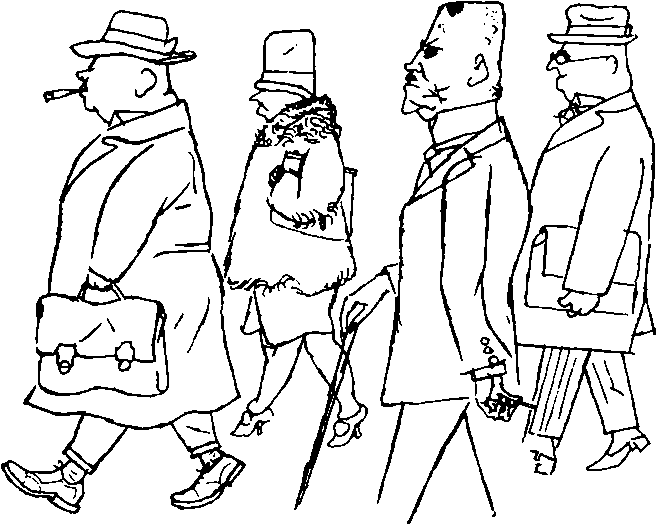







Комментарии
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором