Геоисторические закономерности и специфические особенности эволюции военно-политических систем му
Парвин Дарабади
доктор исторических наук,
профессор кафедры международных отношений Бакинского Государственного Университета (Баку, Азербайджан)
Геоисторические закономерности и специфические особенности эволюции военно-политических систем мусульманского Востока и христианского Запада.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936)
БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ
В в е д е н и е
Драматические события первого десятилетия ХХ1 века, связанные с крахом политики «мультикультурализма» в Европе и последующим усилением антиисламских и антихристианских тенденций в обществах ряда ведущих стран Запада и Востока, терактами со стороны как христианских, так и мусульманских экстремистских сил вновь реанимировали обострение отношений между этими крупнейшими цивилизационно-религиозными сообществами, их идеологиями и ценностями. В ряде событий в христианской Европе и мусульманском Востоке весьма отчетливо проглядываются контуры хантингтоновских межцивилизационных столкновений, чреватых куда большей опасностью для всего человечества, чем даже возможная грядущая ядерная война. Наряду с этим в наступившем столетии наблюдается появление совершенно нового по своей социально-политической сущности явления глобального масштаба – геотерроризма – детища геополитики ХХ1 века, когда методы ведения борьбы как международных террористических структур, как и противостоящих им антитеррористических коалиций мало чем отличаются друг от друга. Достаточно понаблюдать за военно-политическими процессами, протекающими в первом десятилетии нынешнего века в Ираке, Афганистане, а за последний год и на Арабском Востоке. Все это актуализировала необходимость обратиться к прошлому и рассмотреть предыдущий многовековой период противостояния Запад-Восток, общие геоисторические закономерности и специфические особенности эволюции их военно-политических систем на фоне динамики геополитических изменений соотношения сил на мировой арене за последние полутора тысяч лет. Тем более что зловещие признаки возобновления «крестовых походов» и «столкновений цивилизаций» уже начали проглядываться в наступившем столетии. Все это может привести к тому, что всемирный политический коллапс может наступить горазда раньше, чем планетарная экологическая катастрофа.
Геоисторические корни формирования военно-политических систем мусульманского Востока и христианского Запада.
Одним из важных составных частей процесса исторического развития мусульманского Востока и христианского Запада на протяжении почти полутора тысячи лет, охватывающей периоды Средневековья, Нового и Новейшего времени, явилось формирование и совершенствование их военно-политических систем.
Причем, если военная организация ведущих христианских стран средневековой Европы формировалась на основе античных греческой и римской военных систем, то военное дело в странах мусульманского Востока на протяжении всего Средневековья развивалось на фундаменте военного опыта предшествующих двух тысячелетий, в особенности, ассирийско-мидийской, византийско-персидской и гунно-тюркской военных систем. При этом она синтезировала в себе в той или иной степени основные элементы трех наиболее крупных военных систем этой эпохи – арабской, персидской и монголо-тюркской.
В то же время на развитие военных систем наиболее крупных государств мусульманского Востока – Арабского халифата, а затем империи Тимурленга, Османской и Сефевидской держав накладывали свой отпечаток их специфические местные общественно-политические, социально-экономические, национально-этнические и культурно-психологические особенности, среди которых одно из центральных мест занимал религиозный фактор.
Зародившийся в начале У11 века на Аравийском полуострове Ислам, который в эпоху Средневековья являлся, по выражению немецкого военного историка Х1Х века Ганса Дельбрюка, «военно-политической организацией народа», сформулированные в священном Коране основные принципы «джихада» и морально-этические нормы его ведения, стали той самой прочной идеологической базой, которая обеспечила грандиозные победы Омейадского и Аббасидского халифатов, а впоследствии органически вписалась в военные системы средневековых мусульманских государств Востока и, прежде всего, государств тюрков-сельджуков, империи Тимурленга, Османской и Сефевидской держав.
На протяжении Средних веков мусульманский Восток был единственным цивилизованным соседом христианской Европы. Все Средневековье прошло под знаком почти непрерывного военно-политического противостояния между двумя этими цивилизационно-религиозными объединениями. Ко времени, когда европейские крестоносцы достигли Ближнего Востока в конце XI века, Ислам уже успел вобрать в себя элементы трех основных военно-политических систем Востока: арабской, персидской и тюркской, каждая из которых внесла свой вклад в усиление мощи исламского оружия.
Высокая эффективность восточной военной системы была продемонстрирована в период крестовых походов Х1-Х111 вв., когда, несмотря на ряд первоначальных впечатляющих успехов крестоносцев, в целом они закончились для Запада провалом. Не случайно, что именно к этому периоду относятся создание в ряде стран Европы своих военно-религиозных организаций – монашеско-рыцарских орденов, просуществовавших вплоть до ХУ1 века. Именно через Восток на Запад пришли легкая кавалерия, огнестрельное оружие, а также ряд тактических усовершенствований.
Появление в начале Х1 века на Переднем и Среднем Востоке новой мощной военно-политической силы в лице тюрков-сельджуков, а затем с начала Х111 века монголо-тюрков внесло свою существенную лепту в совершенствование военных систем ряда крупных государств этого региона и нашедших в конце концов свое концентрированное выражение в течение четырех столетий, начиная с Х1У в. и вплоть до ХУ11 в. в империи Тимурленга, Османской и Сефевидской державах. В них органически соединились основные элементы по существу во многом родственных пустынной арабской и степной тюркской военных организаций. Арабо-тюркская военная система занимала вплоть до Нового времени доминирующее положение во всем мусульманском Востоке.
Как и на Арабском Востоке в этих военных системах происходило слияние религиозных и военных факторов, которые позволили на протяжении трех столетий – Х1У-ХУ1 вв. оказывать достаточно мощное военно-политическое давление на страны Запада. В частности, военная мощь Османской империи достигла в ХУ1 веке такого уровня, что перед ней раздираемые междоусобицами ведущие страны Западной Европы устояли благодаря, прежде всего, наличию противоречий между ведущими державами средневекового Востока – Османской империей и Сефевидской державой.
В свою очередь реальная турецкая угроза Европе в XV-XVI вв. подталкивала ряд западноевропейских государств - Венецию, Португалию, Испанию, Англию, Папство, германские государства и ряда других к созданию антиосманской военно-политической коалиции с мусульманскими государствами Ак-Коюнлу, а затем и Сефевидов, стремившихся, в свою очередь контролировать традиционные торговые магистрали и, прежде всего, Великий Шелковый путь, связывающие Китай и Индию с рынками стран Запада. Для достижения этой цели, прежде всего, необходимо было выйти к Черному и Средиземному морям. В свою очередь Запад преследовал далеко идущие геополитические цели - создать благоприятные условия для предстоящей колониальной экспансии в Азии, столкнув друг с другом и, тем самым, ослабив две могущественные восточные монархии - Османскую империю и Сефевидскую державу. К тому же на юго-западной окраине Европы, на Пиренейском полуострове испанцам удалось к концу ХУ века, постепенно уничтожив арабо-мавританские эмираты, превратиться в достаточно сильное централизованное государство со своим мощным океанским флотом.
Таким образом, создавались предпосылки реализации ведущими европейскими державами при помощи формирующейся в этот период мощной «морской силы» геополитической стратегии "анаконды" - установление контроля и удушения береговых территорий афро-азиатских стран, в полной мере осуществления уже в XVIII-XIX вв., когда капиталистический Запад, благодаря промышленной революции уходит далеко вперед от безнадежно отставшего феодального Востока.
Закономерности и специфические особенности формирования военно-политических систем на Западе и Востоке в Новое время.
Отбившись к началу ХУ11 века от натиска мусульманского Востока христианский Запад начинает постепенно перехватывать военно-стратегическую инициативу. Во многом благодаря Великим географическим открытиям, в корне изменившим геополитический облик мира и развитию магистральных морских торговых путей, находившихся под контролем западных европейцев, на фоне упадка в целом караванной торговли, приведшей в свою очередь к нарушению установившихся столетиями традиционных торгово-экономических связей стран Ближнего и Среднего Востока, как со странами Европы, так и с Индией и Китаем, послужили одной из основных причин экономического и связанного с ним военно-политического упадка всей мусульманского Востока на рубеже XVII-XVIII веков. К этому следует добавить и тот немаловажный геостратегический фактор, что страны мусульманского Востока, оставшись на уровне времен Синбада-Морехода, так и не стали обладателями «морской мощи» (Sea Power), включающей в себя, согласно концепции американского адмирала А.Мэхэна, три основных компонента – военно-морские флот + торговый флот + военно-морские базы, ибо как заметил в свое время Бернар Кара де Во, «мусульмане … в целом не слывут большими любителями морского дела».
Обладающая к этому времени мощной морской силой сравнительно ограниченная в пространственном отношении талассократическая Западная Европа сумела выиграть геополитическую схватку с огромным теллурократическим Востоком, "погрузившимся" в силу ряда объективных и субъективных причин в длительный "летаргический сон", от которого он очнулся лишь благодаря грозным раскатам ХХ века.
Наметившийся начиная с ХУ11 века мощный экономический рывок Запада, ставшим возможным благодаря появлению централизованных крупных государств в Западной Европе со сравнительно стабильными политическими режимами не мог не сказаться и на развитии военных систем формировавшихся в этот период великих европейских держав – Англии, Франции, Испании, Австрии, а с начала ХУ111 века – Пруссии и России.
Уже в эпоху позднего Средневековья в Европе сформировалось ясное понимание, что господство на океанах и морях становится предпосылкой гегемонии континентальной. Практика морских войн и крупных военно-морских экспедиций институционализировалась в Европе в целенаправленное развитие, стала важным составляющим элементом динамического стремления к максимальному расширению сфер влияния. Именно в ХУ11-ХУ111 вв. появляются «морские державы» со своими мощными военными флотами. Формирование централизованной военной организации, регулярных армий и флотов, обладание высокотехнологическим по тем временам огнестрельным вооружением, совершенствование стратегии, тактики и оперативного искусства в ходе ведения многочисленных войн в Европе не могло не сказаться на качественном росте военного потенциала ведущих европейских держав, а в целом давали Западу стратегическое преимущество в ходе колониальных войн на Востоке. Причем, Восток проиграл Западу, прежде всего, в борьбе за господство на морских просторах. В то же время именно наличие крупного флота в Средиземноморье во многом позволило Османской империи продержаться до начала ХХ века. В целом же наметившееся в этот период экономическое отставание восточных стран не могло не сказаться и на развитии их военных систем, что и позволило западноевропейским странам приступить к планомерной колониальной экспансии на восточном и южном направлениях.
Касаясь вопросов эволюции и совершенствования военной системы стран мусульманского Востока в Новое время, то следует заметить, что хотя в начале Х1Х века в ряде стран Востока, в частности в Турции и Персии, были предприняты первые попытки привести свои вооруженные силы в соответствие с передовой европейской военной системой, однако это не дало ожидаемого эффекта, что наглядно продемонстрировали целый ряд русско-турецких и русско-иранских войн ХУ111-Х1Х вв. Обладая мощной морской силой в лице Черноморского и Каспийского военного флотов и передовой для того времени военной организацией в лице регулярной армии России удалось утвердиться на просторах Черного и Каспийского морей и значительно расширить сухопутные границы своей империи, включив в ее состав Крым и Кавказ, а во второй половине Х1Х века и Туркестан.
Это было связано, прежде всего, с тем обстоятельством, что способы ведения войны мусульманскими странами Востока в этот период уже не соответствовали требованиям того времени, так как были напрямую связаны с существующим архаичным феодальным социально-политическим строем. К тому же наблюдалось значительное экономическое и научно-техническое отставание стран Востока от ушедших далеко вперед ведущих держав Запада, в том числе и полуфеодальной Россией. К тому же, как отмечал французский император Наполеон 1 в своем письме персидскому Фатали шаху, написанном в 1806 г., хотя "люди Востока мужественны и даровиты», однако «незнание некоторых искусств (имелись ввиду военных - авт.) и небрежное отношение к дисциплине, которые увеличивают силу армий, являются для них большим недостатком в войне против Севера и Запада".
В свою очередь Фридрих Энгельс в конце Х1Х века подчеркивал, что ведение войны, выраженные в военных доктринах, в уставах и наставлениях европейских стран, сами по себе не могут изменять облик армий восточных стран, если налицо нет необходимых условий. В то же время он отмечал, что это еще не свидетельствовало о том, что восточные народы нельзя научить европейской тактике. Для введения европейской военной системы у восточных народов, прежде всего, необходимо создать офицерский и унтер-офицерский корпус, обученной по новейшей европейской системе, свободных от старых национальных предрассудков и пережитков и способных вдохнуть жизнь в новые формирования. Опыт формирования национальных вооруженных сил в странах Востока во второй половине ХХ века наглядно подтвердил верность этих суждений.
Касаясь такого важного аспекта, в том числе и в военном деле, как национальный менталитет, Ф.Энгельс еще в 1857 г. писал в частности про афганцев: «Географическое положение Афганистана и характерные черты народа придают этой стране такое политическое значение в делах Центральной Азии, которое едва ли можно переоценить… Афганцы - храбрый, энергичный и свободолюбивый народ… Война для них является развлечением и отдыхом от однообразных занятий хозяйственными делами. Афганцы разделяются на кланы, причем различные вожди осуществляют нечто вроде федерального господства над ними. Только неукротимая ненависть к государственной власти и любовь к личной независимости мешают им стать могущественной нацией; но именно эта стихийность и непостоянство поведения превращают их в опасных соседей, поддающихся влиянию минутных настроений и легко увлекаемых политическими интриганами, которые искусно возбуждают их страсти». Эти мысли выдающего военного теоретика Х1Х века нашли свое наглядное подтверждение в ходе военно-политических событий в Афганистане в ХХ веке и не потеряли своей актуальности в начале ХХ1 века.
ХХ век – новый этап в эволюции военно-политических систем Запада и Востока
Тотальное военно-техническое превосходство Запада над Востоком, достигнутое благодаря промышленной революции и совершенствования политических систем великих держав, свое наглядное подтверждение получило в ХХ веке. В то же время специфические исторические военные традиции Востока нашли свое отражение в ходе многочисленных войн и вооруженных конфликтов, протекавших на протяжении прошлого столетия, когда основу тактики ведения вооруженной борьбы составляли постоянные нападения на тыл и фланги противника, ночные налеты и засады, удары по коммуникациям и опорным базам, умелое использование условий горной и пустынной местности и т.д. Именно они составляли основу теории иррегулярной (малой, партизанской) войны, выработанной в период Первой мировой войны и на практике успешно осуществленной английским полковником Т.Э.Лоуренсом в ходе боевых операций арабов против турецкой армии в пустынных просторах Аравии. Не случайно, что именно этому специалисту «малых войн» принадлежит мысль о том, что «вести войну с восстанием столь же хлопотно и утомительно, как есть суп с ножом».
Этот опыт был значительно обогащен в ходе ряда последующих крупных и малых войн в ряде мусульманских стран Азии и Африки, в частности, в Алжире в 50-х годах против французской колониальной армии, в Афганистане против советских войск в 80-х гг. и в Сомали против американских войск начале 90-х гг. прошлого века и показал свою высокую эффективность. Аналогичная ситуация в той или иной степени наблюдается и в ходе антитеррористической операции НАТО в Афганистане против талибов.
В целом же опыт боевых действий вооруженных сил стран мусульманского Востока против иноземных вторжений за последние десятилетия показывает, что успешно сопротивляться агрессору в современных условиях возможно лишь в том случае, если вооруженные формирования добиваются высокой степени владения современным оружием; умело используют разнообразные средства для организации всех видов огневой поддержки наступления; устойчивой противотанковой и противовоздушной обороны; готовы как позиционной, так и маневренной обороне, к быстрой смене одних форм боя другими, в частности, умение вести боевые действия в особых условиях – ночью, на марше, при отражении морских и воздушных десантов, а также в условиях густонаселенных мегаполисов.
В целом богатейший опыт ведения национально-освободительных войн в Азии и Африке в 50-80-х гг. прошлого столетия показал высокую эффективность трехкомпонентной структуры военного строительства в этих странах – регулярные войска; местные (региональные) формирования; партизанские отряды и отряды самообороны. Такая структура давала возможность вовлечь в боевые действия против агрессоров максимальное количество местного населения.
Рациональное синтезирование выдержавших испытанием временем западной и восточной военных систем в ряде крупных мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока, обладающих значительным людскими и природными ресурсам, обширными территориями и относительно развитой индустриально-технологической базой дала возможность достаточно эффективному развитию их военного потенциала – строительству своих национальных вооруженных сил и военной промышленности, во многом отвечающим современным требованиям и учитывающим наиболее подходящие к ним местные условия. В то же время в современных условиях информационно-технологической революции даже обладание ядерным оружием еще не гарантирует защиту суверенитета страны.
Как показывает мировой опыт, победа достигается боевой деятельностью, т.е. организованной вооруженной физической и идеологической борьбой, которая имеет достаточно стабильную политическую и материально-техническую основы, находящиеся в прямой зависимости от наличия экономических ресурсов и общественно-политического устройства государства. Причем сильная и стабильная экономика является основой военного могущества любого государства.
Победу в войне гарантируют как объективные, так и субъективные факторы, более глубокий и устойчивый тыл, более мощная экономическая база, политическое единство народа и на этой основе – больше выносливости, выдержки, упорства в борьбе, прочные морально-идеологические основы вооруженных сил и крепкая воля народа к победе. К этому следует добавить: лучшее вооружение, инициативный, обученный и обогащенный боевым опытом командный и личный состав вооруженных сил, а также и жертвенность воинов, готовых отдать свои жизни за свою Родину и нацию. Как отмечал еще в начале Х1Х века выдающийся немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц, «великие цели составляют душу войны» и подчеркивал, что «на войне терпит неудачу все то, что делается с недостаточно отчетливым сознанием и с неполным напряжение и твердости воли».
З а к л ю ч е н и е
В настоящее время, как впрочем, и в предыдущие эпохи, лишь фатальный раскол мусульманского Востока, в отличие от консолидировавшегося после Второй мировой войны в мощные военно-политические союзы христианского Запада, прежде всего, в лице НАТО, дает последнему возможность оказывать в критических ситуациях достаточно эффективный военный нажим на ряд восточных стран. Причем современные высокие, наукоемные военные технологии дают возможность ведущим странам Запада вести бесконтактные войны с максимально малыми потерями в людской силе и технике. Локальные войны и вооруженные конфликты начала ХХ1 века носят характер полицейских операций под видом многонациональных сил, направленных на свержение неугодных режимов (Ирак, Афганистан, Ливия,). В свою очередь, мусульманский Восток, отторгая навязываемые ему западные христианские ценности, пытается сохранить свою цивилизационно-ценностную сущность, нередко прибегая к так называемым ассиметричным войнам, авангардную роль в которых играют силы международного терроризма с их бредовыми идеями о Всемирном Халифате.
В то же время создание системы коллективной безопасности стран мусульманского Востока в виде военно-политических блоков или союзов, наподобие НАТО и ЕС, может способствовать более успешному противостоянию очередным «крестовым походам», то бишь «миротворческим операциям», «принуждениям к миру» и тому подобным военным вторжениям, нередко сопровождающихся «дружественным огнем», обеспечив при этом их национальную безопасность и подлинную независимость. Однако, в силу ряда как объективных экономических, так и субъективных политических причин, эта перспектива выглядит в ближайшей перспективе маловероятной, а то и утопической.
Разин Е.А. История военного искусства. В 3-х томах. - Том 2. СПб.: ООО «Издательство Полигон»,1999, с.109-123, 203-211,226-248.
Карра де Во Б. Арабские географы. Л.,1941,с.23.
Цит.по: Ибрагимбейли Х.М. Россия и Азербайджан в первой трети Х1Х века (Из военно-политической истории). М.: Наука,1969, с.85.
Энгельс Ф. Афганистан // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Том 14. 2-е изд. - М.: ГИПЛ, 1959,с.78.
Цит.по: Лиддель-Гарт Б. Полковник Лоуренс. М.1939,с.99.
Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. М.:Наука,1974,с.374-375; Вооруженная борьба народов Азии за свободу и независимость. М.: Наука,1984,с.311.
Карл Клаузевиц. О войне. М.: Эксмо, Мидгард, 2007.


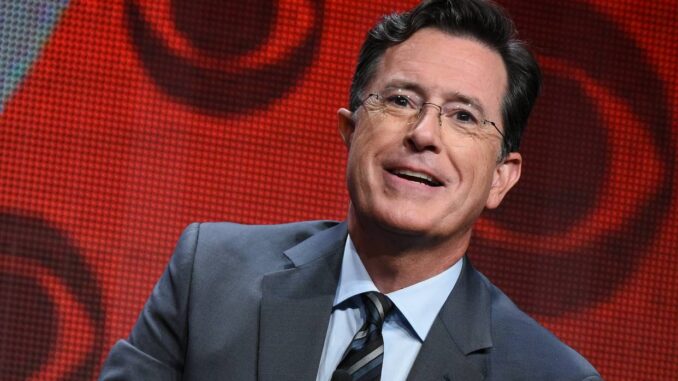
Комментарии