Преодолевая «идиотизм»
Известная фраза 1990-х «рынок решает все» фактически подразумевала, что государство и демократические институты — это придатки рынка. Оказалось, что без государства нет рынка, а демократизация не создает государство
Девяностые годы XX века в России оказались периодом торжества социального дарвинизма и недостаточно продуманных реформ, в результате которых были разрушены социальные связи, общество атомизировалось, а большинство граждан лишилось благосостояния, уверенности в собственной безопасности и веры в демократические институты.
На почве социальной катастрофы, политического и экономического хаоса в России не могло возникнуть ничего политического, кроме того, что возникло: сильный лидер, сплачивающий аморфную нацию вокруг простых лозунгов спокойной жизни. И «Единая Россия» — такая же рыхлая, как сама нация, она способна объединить самые разные социальные слои именно потому, что они не осознают своей социальной и политической особости. И даже если представить себе какой-то новый катаклизм, в результате которого к власти придет другая партия, ситуация изменится ровно зеркально: другой вождь и другая партия чиновников. И так будет, пока не проявятся, не осознают своих интересов и политически не объединятся в общероссийском масштабе крупные социальные группы. Не обязательно традиционные классы. Возможно, основой объединения станут неклассовые интересы. Скажем, противостояние жилищно-коммунальной, школьной реформе или реформе системы социальных учреждений, которые продолжают линию экономоцентрических реформ, характерных для 1990-х, и отражают тот факт, что определять экономическую и социальную политику правительства продолжают неолибералы.
Институциональный идиотизм государства
Проводя такие реформы, государство фактически отказывается от ответственности за текущую жизнь граждан. Странно после этого требовать от граждан лояльности такому государству. В результате подобных реформ государство деморализуется, а гражданское общество разрушается.
Ослабление государства в России шло параллельно с резким возрастанием социального неравенства, причем в формах значительно более вызывающих, чем это характерно для развитых капиталистических демократий. В стране возник симбиоз капиталистической элиты и высшей бюрократии, изолированный от остального населения и фактически представляющий собой замкнутую социальную сеть, контролирующую и экономические ресурсы, и большую часть публичной политики.
Приватизация большинства государственных услуг делает государство и демократические институты бесполезными. Тем самым граждане теряют возможность влиять через институты демократии на качество этих услуг. Когда государство перестает отвечать за реальное качество своей политики, граждане перестают нуждаться в государстве и демократических институтах. А государственный аппарат, перенацеленный с задач служения на задачи зарабатывания, становится легкой добычей коррупции.
Следование неолиберальной политике привело к тому, что государство лишилось значительной части навыков, без которых оно уже не способно разобраться в тех видах деятельности, которыми традиционно занималось: образование, здравоохранение, наука, безопасность. Это явление стало общим для большинства либеральных государств Европы и США. В результате, как иронично замечает британский политолог Колин Крауч, в современном либеральном государстве «правительство стало своего рода институциональным идиотом».
Отказ государства от своих обязательств перед гражданами спровоцировал их на демонстративное пренебрежение законом, то есть своими обязательствами перед государством и друг перед другом, причем даже на бытовом уровне. Например, резко возросло число нарушений правил уличного движения и демонстративное взаимное неуважение его участников, которое стало уменьшаться только в последнее время, после ряда вызывающих дорожных происшествий со смертельным исходом, получивших большой общественный резонанс. Можно сказать, что и значительная часть предпринимателей, которая не платила налогов, не возвращала долгов, решала спорные вопросы силой оружия, демонстративно «ездила на красный свет» в экономике так же, как на дорогах. Демократия в такой форме была воспринята значительной частью населения как отрицание закона и государства. Более того, оказалось, что такое государство стало им безразлично. Именно поэтому так легко распался Советский Союз. А поскольку этот распад осуществился достаточно мирно, то многие пришли к выводу, пусть и неосознанному, что в слабости государства нет личной угрозы для каждого.
Хотя надо признать, что в России неолиберальная политика легла на глубокую историческую основу. Известный российский историк Борис Миронов в интервью «Эксперту» обратил внимание на то, как по-разному отнеслось немецкое и русское крестьянство к введению продразверстки своими государствами еще во время Первой мировой войны. Немецкий крестьянин напрягся и повез сдавать то, что требовало государство, а русский тут же резко сократил посевы, чтобы ничего не сдавать. Это крестьянское отношение к государству одновременно как к покровителю и как к обузе до сих пор владеет умами значительной части наших граждан и нашло причудливое воплощение в либеральных реформах.
«Железный закон олигархии»
Постъельцинский режим решил важнейшую для большинства граждан задачу стабилизации общества и государства, и именно этим определяется его популярность. Причем он сумел сделать это так, что большинство граждан не заметило, что политическое и экономическое усиление государства сопровождалось его социальным ослаблением. Для граждан важнее оказалась стабильность.
Но после пятнадцатилетия стабилизации и резкого роста влияния государственных институтов на политику и экономику встал вопрос о границах государственных полномочий, обеспечивающих эффективность государства, но при этом не затрагивающих основы демократии и не уменьшающих эффективность рынка и гражданского общества. Для многих теоретиков начала ХХ века эта проблема казалась неразрешимой. Немецкий политолог Роберт Михельс сформулировал так называемый железный закон олигархии, согласно которому любая форма социальной организации, вне зависимости от ее первоначальной демократичности либо автократичности, неизбежно вырождается во власть немногих избранных — олигархию, потому что такова природа человека и власти. И действительно, в первой половине ХХ века, особенно после Первой мировой войны, политические режимы очень многих прежде демократических стран из демократий разным путем превратились в автократии и олигархии. Этот процесс удалось частично развернуть только после Второй мировой войны. Но сама проблема осталась. Об этом говорят такие примеры, как переворот, приведший к власти де Голля, диктатура «черных полковников» в Греции, переворот в Чили, неоднократные попытки авторитарных переворотов в Италии. Казалось бы, новый поворот произошел после краха Советского Союза, когда практически все страны бывшего соцлагеря и бывшего СССР объявили, что идут по пути демократии. Но вот уже и новые демократии, возникшие на обломках социалистической системы, повторяют путь своих предшественников. В них все большее влияние получают партии, склонные к авторитаризму. Очень характерна в этом отношении Венгрия, которая между мировыми войнами достаточно быстро подпала под власть правой диктатуры, а в настоящее время, после короткого периода увлечения демократией, власть в стране перешла к правоконсервативной партии с авторитарными замашками. Процессы, которые мы сейчас наблюдаем в России, лежат в том же русле, что и процессы, происходящие в мире.
Российский транзит
Американский политолог Роберт Даль в своей работе «Полиархия: участие и оппозиция», написанной еще в 1971 году, анализировал возможные проблемы перехода от авторитаризма к современной форме демократии — полиархии — и возможные пути этого перехода. По Далю, возможны три пути: 1) либерализация режима предшествует его открытости; 2) открытость режима предшествует либерализации; 3) внезапный переход от гегемонии к полиархии. Первый вариант реализовался в странах, прошедших путь органической демократизации; второй, как считает Даль, характерен для стран, переходящих к полиархии в ХХ веке. Третий вариант — некий идеал, примером которого, возможно, может служить Испания. Именно второй путь представляется Далю полным рисков: «Процесс либерализации поджидает серьезная опасность провала, поскольку в условиях всеобщего избирательного права и массовой политики возникают трудности с функционированием системы взаимной безопасности» политических оппонентов в рамках политической системы. Что мы, собственно говоря, и наблюдали в ельцинский период, когда реформаторы считали, что в случае прихода к власти коммунистов страну ждет реванш, а их самих — расправа; коммунисты же постоянно ожидали расправы от реформаторов. Кризис 1993 года и попытка импичмента Ельцину наглядно продемонстрировали правоту Даля.
Следуя неолиберальным курсом, государство утратило многие навыки, без которых оно уже не способно разобраться в традиционно своих видах деятельности: образование, здравоохранение, наука, безопасность. Отказ же государства от своих обязательств перед гражданами спровоцировал их на демонстративное пренебрежение законом
Этот печальный для ранней российской демократии сценарий дополнялся радикальными настроениями российских реформаторов по отношению к советским институтам государственной власти.
Но, как пишет Даль, «наиболее благоприятным способом установления полиархии является преобразование прежде легитимных структур гегемонии в формы и структуры, подходящие для политической состязательности. Данный способ не создает глубоких расколов в обществе и сомнений в легитимности нового режима». К сожалению, российские реформаторы действовали ровно наоборот, стремясь разрушить все институты, доставшиеся России от советских времен, даже если они не только не представляли опасности для нового режима, но и были бы ему полезны.
Сочетание всех этих факторов не могло не привести к резкому ухудшению социального самочувствия граждан, которые, с одной стороны, отвернулись от политики, потому что увидели в ней инструмент разрушения государства, а с другой — стали требовать от политиков восстановления его дееспособности.
Выбор Ельциным Путина в качестве преемника говорит о том, что он каким-то образом уловил эту тенденцию. Как и сам Путин, который, опираясь на эти настроения, смог применить силу для подавления сепаратистов на Северном Кавказе и для наступления на олигархов и феодальных баронов в регионах, использовавших возникший в предшествующую эпоху политический вакуум, чтобы заполнить его и получать на этом незаконные коммерческие и политические дивиденды. При этом ряд принятых Путиным мер по реформе политической системы свидетельствовал о его недоверии к демократическим институтам в той форме, в которой они действовали в России в то время, что было расценено многими либеральными критиками Путина и в России, и за границей как признак ослабления демократии. Но, как замечает по этому поводу в своей книге «Демократия» американский политолог Чарльз Тилли, на самом деле, возможно, путинские реформы способствовали «долгосрочным изменениям, которые со временем будут способствовать демократизации России».
Бессмысленные обиды либералов
То, что демократия в России по меньшей мере несовершенна, признают все — и сторонники нынешней власти, и ее оппоненты; но если первые объясняют это молодостью российской демократии, то вторые — злым умыслом власти, не дающей ей развиваться. При этом оппоненты власти апеллируют к образцам 1992–1993 годов, более того, призывают вернуться в то время. Одновременно и те и другие признают, что в современном мире партии и другие институты демократии меняют свое лицо. Причем первые пытаются увидеть в российских реалиях отражение общемировых тенденций, а вторые видят в этих тенденциях тот идеал, которого еще предстоит достичь или к которому надо вернуться, поскольку в 1990-е именно он был воплощен в жизнь.
Политические игры 1992–1999 годов действительно в чем-то напоминают западные образцы, но только в их худших проявлениях: реформы, во многом опирающиеся не на общественные интересы, а на интересы властных группировок, бесстыдные медийные манипуляции общественным мнением и столь же бесстыдное использование финансовых ресурсов для давления на избирателей и их подкупа.
На самом деле главная проблема России в области демократии — распад традиционной социальной ткани и в связи с этим потеря социальной базы у возникших на переломе эпох политических партий. Возникновение полноценных политических партий возможно только по мере созревания социальных условий. Вот почему обиды «либералов» на власть, которая будто бы оттесняет их, используя административный ресурс, бессмысленны. Это прямой результат либеральных реформ, разрушивших старое общество.
Фактически заново возникшее общество оказалось социально аморфным. А все социальные группы претерпели катастрофический распад. Рабочие забыли о первых ростках солидарности и взаимоподдержки. Интеллигенция деморализована распадом и даже уничтожением советского научно-технического комплекса. Новый средний класс если и осознал свою особость, то только как класс — потребитель новых материальных, а не политических возможностей. Наконец, новая социальная группа — предприниматели — оказалась разрозненной и не способной даже под давлением государства объединиться, чтобы сформулировать свои интересы. Они их еще не осознали, а возникающие проблемы предпочитали решать простейшими способами — через личные контакты с представителями власти, через блат и подкуп.
Бесплодные дискуссии
Но пока дискуссии о путях развития демократии в России, которые идут уже много лет, поверхностны и сводятся к обсуждению вопроса о том, как нам ввести тот или иной демократический институт, или даже менее того, какая из набора неких нормативных демократических мер приведет к победе демократии в России. Например, снижение избирательного порога или выборность Совета Федерации и губернаторов? Но наличие или отсутствие демократии определяется не набором даже самых важных норм, а состоянием человеческих умов и общества. Как писал Сэмюел Хантингтон, «чтобы выборы имели смысл, необходим определенный уровень политической организации. Проблема состоит не в том, чтобы проводить выборы, а в том, чтобы создавать организацию. Во многих, если не во всех модернизирующихся странах выборы лишь укрепляют влияние разрушительных и часто реакционных общественных сил, подрывают систему политического управления».
Ввести демократию указом высокого начальства невозможно, как бы этого ни хотелось. Мечты по этому поводу напоминают иронические рассуждения Салтыкова-Щедрина о том, что «ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно».
Стабильность и демократия
Осознавая всю глубину проблем современной российской демократии, важно отметить, что именно стабильность и эффективность государственных институтов — важнейшие условия развития демократии.
История Европы в промежутке между мировыми войнами показывает нам многочисленные примеры того, как нестабильное и неэффективное, но вполне демократическое государство отвращало своих граждан от демократии. Это и Германия, и Венгрия, и Польша, да и почти все остальные европейские страны. Даже англосаксонские страны, заповедник демократии, испытали сильнейшее давление со стороны антидемократических сил.
Сохранение социальной стабильности, достигнутой в России за последние десять лет, — важнейшее условие ее демократизации, угроза которой исходит как из лагеря радикальных либералов в правительстве, так и из лагеря радикальной оппозиции, и подрывает ее перспективы.
Второе условие демократизации — это, говоря языком XIX века, бесспорно, развитие производительных сил страны. Во-первых, потому, что без этого невозможно достичь того уровня благосостояния граждан, которое является основой их гражданской независимости, во-вторых, потому, что это еще одно условие сохранения стабильности. В отсталой стране невозможно сохранить стабильность. И это опять-таки демонстрирует пример всего постсоветского пространства.
Демократия человеческого достоинства
Третье условие, без которого развитие демократии невозможно, — это готовность граждан к борьбе за свои права, в том числе против социальных реформ, разрушающих солидарные основы государства.
Основная проблема переходного периода заключается в том, как сочетать стабильность и неизбежные конфликты, порождаемые характером современного общества. Тем более что, как показывает вся история человечества, именно конфликты лежат в основе его развития. Проблема в том, как не допустить разрастания естественных конфликтов, возникающих между различными социальными (в широком смысле этого слова) группами, в антагонистическое социальное противостояние. Выход один — вовлечение его участников в свободную демократическую политику. ОМОН не может разрешить конфликт, он может его или разжечь немедленно, или загнать внутрь общественного организма, чтобы через какое-то время он вернулся в обостренном виде.
Отличие современной ситуации от ситуации конца 1980-х, когда поднялось массовое демократическое движение, состоит в том, что тогда исходный конфликт возник в правящей элите и от нее распространился на все общество. Зачатки современной демократии кроются в низовых социальных движениях, в которых граждане отстаивают свои права перед лицом аморальности, отрицающей трудовую этику, и произвола, источником которого может быть чиновник, милиционер, предприниматель и даже сосед по дому. Ответом на этот удушающий произвол, замешанный на взаимном неуважении и недоверии, столь характерный для современного российского общества, может быть только формирование среды взаимного доверия, взаимоподдержки и солидарности. И только эта среда может стать основой новой демократии в России. Мы наблюдаем очаги этой новой демократии в самых разных, иногда пугающих, формах — это и движение «синих ведерок», и борьба за освобождение Бычкова, и борьба вокруг Химкинского леса и против разрушения Москвы, а также многое другое.
И можно сказать, что еще не осознанным лозунгом новой волны реального демократического движения, а не его псевдолиберальной имитации становится «Человеческое достоинство».
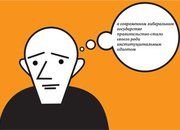





Комментарии
думаю что в ближайшее время. никаких новых акций "зачатков гражданского общества" не предвидится. Разве что гей-парад.... А "жить дружно" ?! Не будет никакой дружбы. Нас очень удачно разделили экономически. И это сейчас главный критерий активности. Есть идеалисты, но их мало. Власть имеет возможность, делая разовые вбрасывания благ или просто денег отдельным категориям, раскалывать любые складывающиеся очаги гражданской самоорганизации...
Я бы выделила как ключевую вот эту мысль автора:
"Отказ государства от своих обязательств перед гражданами спровоцировал их на демонстративное пренебрежение законом, то есть своими обязательствами перед государством и друг перед другом, причем даже на бытовом уровне". Она многое объясняет в нашей теперешней жизни, в том числе и взаимное недоверие и неуважение в обществе. Только вот насчёт "очагов" новой демократии, перечисленных автором, иллюзий не питаю.
В гражданскую кровь была потому, что много людей еще по привычке поддерживало царя. Эти люди и наполняли собой белую гвардию.
А сейчас нет таких кто бы поддерживал Путина или Медведева и готов был бы идти умирать за них.
Таковых нет. Есть только остро нуждающиеся в новой власти. Они и победят без всякой крови, если НАТО не вмешается. Но у тех пупок развяжется вмешиваться. Страна очень большая и если русских разозлить они зверьми становятся.
Никакого объединения по принципу ЖКХ быть не может, это просто глупо. Рост цен на ЖКХ может только подтолкнуть людей к объединению по классовому принципу, но не объединить их.
кроются в низовых социальных движениях,..
в которых граждане отстаивают свои права...
перед лицом аморальности, отрицающей трудовую этику,...
и произвола, источником которого может быть чиновник,
милиционер,..
предприниматель..
и даже сосед по дому...
И это ПОЛНЫЙ список оганизаторов "аморальности, отрицающей трудовую этику,и произвола"?
Прям, от сердца отлегло!!!
Истинное определение понятие "демократия" население не знает. Демократия или есть или ее нет. Немножко демократии не бывает.
У ВВП явно профессиональный талант властвовать над населением - народу плохо, а общественное мнение ЗА власть. Кого купили, кого напугали. Думаю, что ежели его прижмет, то и власть развяжет войну с инакомыслием.
Обратите внимание, что ученые общественных наук ТРЕХ Академий РФ либо молчат, либо помогают власти.
А население страны усилиями власти политически неграмотно.
Госстатуправление показывает в отчетах смертность и количество жиуущих с точностью до +- 50 млн.