Христианский социализм для России
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ
ХРИСТИАНСКОГО СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ
В России уже длительное время сосуществуют, вступая между собой в различные формы взаимодействия религиозная, прежде всего, христианская и гуманистическая духовные традиции. Так или иначе, они имеют выход как в политическую теорию, так и в политическую практику. Нам представляется полезным рассмотреть идею демократического социализма, которая ещё не испробована, в полной мере, историей России. При этом нас интересует то, как обосновывается необходимость такого общественного строя с точки зрения христианской, Богочеловеческой традиции.
В качестве яркого представителя христианского социализма мы рассматриваем С. Н. Булгакова. Этот мыслитель интересен тем, он увлекался идеями христианского социализма, в котором впоследствии испытал разочарование и, в конце концов, утвердился на позициях православной ортодоксии. Однако в своей поздней работе он опять говорит о демократическом социализме в позитивном ключе. Отвергая безбожный и богоборческий русский коммунизм за попрание насилием свободы личности, С. Н. Булгаков пишет: «Однако возможен иной, так сказать, свободный или демократический социализм, и, думается нам, его не миновать истории». (Булгаков С. Н., 1991, с.363)
Прежде всего, С. Н. Булгаков обосновывает необходимость активного участия христианства в общественной и политической жизни. В противовес сторонникам индивидуалистического христианства, сосредотачивающегося на проблематике индивидуального спасения и пропагандирующего неучастие в политике, он считает, что христианство должно простирать своё влияние на все сферы личной и общественной жизни. И если государство и политика существуют, то христианство должно определиться по отношению к данным реалиям социума, выработать формы активного участия в них для утверждения Христовой правды социальной жизни.
В практическом общем деле, надеется С. Н. Булгаков, нашлась бы почва для примирения и объединения всех верующих во Христа. Христианская политика может быть, поэтому, делом междувероисповедным. Согласно С. Н. Булгакову, история есть богочеловеческий процесс, в котором собирается и организуется единое тело человечества. И человек призван активно соучаствовать в этом процессе. И здесь необходимо не только личное моральное совершенствование, но и использование такого средства внешнего устроения человечества как политика. Христианство призвано вести народы пробуждая их совесть, к новым безмерным целям. Поэтому оно неизбежно должно проявиться и в политической деятельности. Известно, что некоторое время сам С. Н. Булгаков пытался создать организацию, которую он называл «Союзом христианской политики». Правда, усилия в данном направлении не увенчались успехом.
Однако, при принятии необходимости активного участия христианства в политике, в общественной жизни возникают вопросы о целях и средствах социального христианства, о его представлении об идеальном общественном строе и отношении к фактически существующему строю. При ответе на эти вопросы С. Н. Булгаков, по нашему мнению, придерживается двух подходов. Один можно условно назвать идеалистическим или принципиальным, а другой прагматическим. Идеалистический подход бескомпромиссно выводит необходимость определённого общественного строя и политической борьбы за него из определённых принципов, заложенных в христианском вероучении и интеллектуально разработанных в трудах русских религиозных философов.
Прагматический подход учитывает сложившиеся в обществе реалии и невозможность на каком-то этапе радикально изменить существующий порядок вещей. «Отрицая данный общественный строй, рабство, крепостничество, капитализм, в самых его основаниях, возможно, однако, допускать его относительную историческую необходимость в том смысле, что в данный момент его непосредственно нельзя устранить, не подвергая опасности самого существования общества». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с. 96) Так, например, христианство долгое время мирилось с наличием рабства в обществе, пытаясь, тем не менее, воздействуя на общественное сознание, смягчить нравы людей. В конце концов, такая стратегия привела к успеху – рабство было отменено.
В данной статье нас больше интересует именно идеалистический подход. Нас интересует внутренняя связь между христианским учением и идеалом демократического социализма. По С. Н. Булгакову, в социальном вопросе христиане должны исходить из заповеди любви к ближнему, поскольку каждая человеческая личность имеет абсолютное достоинство, нося в себе образ Божий. Отсюда вытекает идеал свободы личности и уважения человека к человеку. В проекции на общество данный идеал выражается в безгосударственной организации общества: «Естественный идеал христианства есть свободный союз людей, объединённых любовью в церкви, т. е. идеал безвластия (но в то же время и теократический: свободная теократия)». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с.32)
Общая задача человечества – эмансипация личности является религиозной истиной абсолютного характера. Разумеется, для решения этой задачи надо сообразовываться с наличными историческими условиями и имеющимися средствами. Ибо эта задача постепенного исторического осуществления. Здесь обширное и благодатное поле деятельности для социальной и экономической науки.
Идеал любви означает необходимость борьбы с порабощением личности. В качестве максимального выражения подавления личности С. Н. Булгаков указывает самодержавный централистический деспотизм, а в качестве идеала, к которому надо стремиться приблизиться – свободный союз самоуправляющихся общин, федеративный союз демократических республик. Таким образом, исходя из своего представления об идеале, христианство признает необходимость соблюдения прав человека, правового равенства, борьбы с привилегиями. Государство, попирающее эти права, следует назвать антихристианским. «Богу неугодны насилие и гнёт». Получается, что христианство по своему духу близко к идеям демократии. В этом отношении православие, по С. Н. Булгакову, имеет даже некоторое преимущество перед другими христианскими конфессиями, поскольку в его традициях присутствует соборность, противостоящая жёсткой иерархии.
В деле освобождения человека важно отношение к природе и, соответственно, к изменению природы в экономической деятельности. В антропологии С. Н. Булгакова мы видим формулирование основной антиномии человеческой природы. Человек свободен духовно, но скован материальной необходимостью. Человек, отданный в рабство стихии, не должен внутренне становиться её рабом, а должен побеждать необходимость. Эта победа есть подвиг веры. Борьба с необходимостью означает в порядке эмпирическом обязанность трудиться в поте лица, нести хозяйственную повинность общего труда. В хозяйственном труде творится общее дело человечества, человек осуществляет своё предназначение – быть господином вселенной, раскрывая её энергии и подчиняя их своей воле. Эта необходимость труда и помощь людям, нуждающимся в материальной поддержке, раньше понималась как исключительно как обязанность личного поведения, а теперь в ХХ веке трактуется и как обязанность социального поведения.
Кроме политического и правового освобождения человека важное место занимает вопрос его экономического освобождения. С. Н. Булгаков принимает марксистскую идею о том, что все способы производства, существовавшие в истории – рабский, феодальный, капиталистический основаны на экономическом порабощении человека человеком. Поэтому они достойны, с точки зрения христианства, осуждения. Такого же осуждения заслуживает и капитализм, несмотря на некоторые его позитивные моменты. «Православие не может защищать капиталистической системы хозяйства, ибо она основана на эксплуатации наёмного труда, хотя и может до времени мириться с ним в виду его заслуг в поднятии производительности труда и его общей производственной энергии». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с. 367) Эксплуатация, связанная с существом капитализма есть общественный грех, подлежащий устранению: «Современный капитализм, основанный на эксплуатации труда, классовых антагонизмах, контрастах богатства и бедности, есть явный грех и человеконенавистничество. Христианство не допускает примирения с каким бы то ни было общественным строем, основанным на насилии и ненависти, оно может благословлять только строй, воплощающий начала любви, свободы и равенства, и, пока остаётся социальная неправда, оно всегда зовёт вперёд, к социальному прогрессу, к очищению общества от этих пороков, проповедует не только личное, но и общественное покаяние». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с. 85)
Капитализм тесно связан с чувством собственности – жадностью, эгоизмом, духовным пленом человека у собственного имущества. Это противоречит христианскому духу. Недаром отцы церкви ещё в первые века существования христианства сурово и решительно осуждали эгоизм собственников, указывали им на нарушение долга христианской любви, призывали к делам братолюбия и благотворительности.
Даже в самом своём, пожалуй, «антисоциалистическом произведении» «Христианство и социализм», изданном в 1917 году, С. Н. Булгаков пишет, что социализм прав в своей критике капитализма. Капитализм есть организованный эгоизм, который сознательно и принципиально отрицает подчинённость хозяйства высшим началам нравственности и религии. По духовной природе капитализм в значительной степени является идолопоклонством – маммонизмом – безбожным, беспринципным служением золотому тельцу. История капитала есть печальная, жуткая повесть о человеческом бессердечии и себялюбии. Она полна преступлений против человечности. Поэтому социализм прав в своей критике капитализма. Стремление к уничтожению коренной неправды капиталистического строя в социализме и коллективизме должны быть восприняты христианской политикой.
В этой работе С. Н. Булгаков упрекает существующие социалистические движения в том, что они недостаточно радикально критикуют капитализм. По его мысли они являют собой грубое воспроизведение ограниченности и неправды капитализма, поскольку не верят в духовную природу человека и сводят его жизнь к материальным экономическим интересам. Он называет социалистические движения, поэтому, духовно мертвящими, прозаичными, вульгарными. Цель христианской Церкви заключается в этизировании хозяйственной жизни. Это воспитание духовного вкуса, борьба с современным язычеством, с роскошью и извращённостью. В области распределения Церковь следует голосу социальной совести. Она поддерживает общественную солидарность, сохраняя общество от центробежных сил классовой борьбы.
Откровение, по мнению С. Н. Булгакова, даёт две руководящие нормы общественного устройства. Одна из них гласит, что каждый должен трудиться в меру своих сил и умений. Она отрицает праздность и всяческие нетрудовые доходы. Здесь явная перекличка с социализмом, который объявляет войну праздности и тунеядству, является апофеозом труда как нравственного начала. Вторая норма требует заботиться о слабых и угнетённых. «Нормальным с точки зрения этих принципов представляется такой общественный строй, в котором не было бы места для социальной праздности, существовала бы общая обязанность труда, соответственно склонностям и способностям, и в котором не было бы теперешнего различия между богатыми и бедными, имущими много и подвергающимися искушению от своего богатства и не имущими ничего, подавляемыми этой бедностью. В обычном словоупотреблении строй этот зовётся социалистическим». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с.85)
С. Н. Булгаков отмечает, что первые христианские общины жили на принципах общности имуществ. Они стремились к тому, чтобы каждый член общины мог найти себе работу, и, соответственно, источник существования. Если же это не представлялось возможным сделать, то человеку, за счёт общины, обеспечивался необходимый минимум средств для поддержания жизни. «Общность имуществ, коммунизм, озаряет лучшие времена первых веков христианства, и этот порядок и должен быть признан нормой имущественных отношений». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с.34) Правда, этот коммунизм носил скорее потребительский, чем производственный характер.
Заповедь Христа о помощи слабым выполняется сейчас посредством сложной социальной техники – социального законодательства, рабочих организаций, стачек, кооперативного движения. Соответственно, необходимо определиться с позицией христианской политики. В условиях классовой борьбы и противоположности интересов необходимо определить, какая сторона действительно является угнетённой, на чьей стороне социальная справедливость движения. «Демократическое движение, хотя и основывается на началах языческого гуманизма, стремится воплотить в общественных отношениях чисто христианские заветы любви, свободы, равенства». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с. 42) Поэтому христиане должны сотрудничать с социалистическим и демократическим движениями в деле защиты слабых и угнетённых.
По мнению С. Н.
Булгакова само по себе социалистическое регулирование производства ещё не создает должных, любовных отношений между людьми, но зато оно устраняет одну из причин ненависти, мешающую сближению между людьми. Имеется в виду противоположность классов и классовая борьба.
Впрочем, христианство, по С. Н. Булгакову, должно при оценке общественных форм руководствоваться принципом правовой и хозяйственной свободы личности. Тот строй наилучший, который обеспечивает для данного состояния наибольшую личную свободу. В этом смысле в отношении к формам общества христианство исторично и релятивно. Оно не предрешает окончательных характеристик идеального, с его точки зрения, строя. Оно неизменно по цели и исторично по средствам.
Основная мысль христианского социализма в том, что между христианством и социализмом может быть положительное соотношение. «Христианство даёт для социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства, а социализм является средством для выполнения велений христианской любви, он исполняет правду христианства в хозяйственной жизни». (Христианский социализм (С. Н. Булгаков), 1991, с.227) Таким образом, социализм у С. Н. Булгакова лишается собственного духовного содержания и сводится к совокупности практических мероприятий в области внешнего устроения общества.
Однако отношения христианства с реально существующими социалистическими движениями не так просты. Христианству нет никаких причин бояться социализма как благодетельной социальной реформы, которая борется с общественным злом без грубого насилия и сообразно со здравым смыслом. Поэтому в практической части христианская политика и политика социалистов должны во многом совпадать. Христиане должны, однако, вести не классовую, а идейную политику, и использовать только мирные средства. В ХХ веке последователи теологии освобождения поставили вопрос о правомерности использования насилия в борьбе за справедливое общество: «построение справедливого общества проходит через период конфронтации (когда так или иначе применяется насилие) между группами людей, выражающих разные взгляды и разные интересы; через преодоление всего того, что сопротивляется установлению истинного мира между людьми». (Гутьеррес Г., 1994, с. 207)
Особенно отрицательно христианство относится к современному русскому (советскому) коммунизму, поскольку он представляет собой систему тиранического насилия над личностью и коренное отрицание личной свободы. Это – система духовного рабства, враждебная христианству.
Однако в области идейной согласия между христианством и гуманистическим социализмом, согласно С. Н. Булгакову, быть не может. Реальный социализм имеет свою религию, которая противостоит христианству. «Атеизм, понимаемый как человекобожество, есть их религия, и именно из этой религии, а не из непосредственной и простой любви к человечеству, и проистекает их демократизм и социализм». (С. Н. Булгаков), 1991, с. 43) Атеизм использует демократизм и социализм как средство борьбы с христианской религией. Таким образом, социализм человекобожества и социализм Богочеловечества при сходном отчасти теле, имеют вполне различные души. Христианский социализм видит в политике религиозное делание, исполнение заветов Христовых, а атеистический социализм хочет отгородиться от Бога, устроиться на Земле без Бога, обрести земной рай. По мнению С. Н Булгакова, это один из вариантов искушения, которое предлагало превратить камни в хлебы. Конечный идеал атеистического социализма принимает гедонистические черты.
Христианство же не от мира сего. Оно не верит в земной рай, возможность безмятежного существования на Земле. Всегда будет борьба добра и зла, страдания, пусть и не такие приземлённые, как сейчас, и неотменима смерть, пока человек находится в падшем состоянии. Поэтому, если в области практических действий необходимо взаимодействие между христианами и гуманистами, то в области идейной должна быть непримиримая борьба.
Роковая двойственность гуманистического социализма обращает его иногда в оружие религиозной лжи, а служение ближнему – в духовное искушение. С. Н. Булгаков признает, однако, что в настоящий момент именно представители человекобожества совершают подвиги самоотвержения, а представители религии Богочеловечества проповедуют человеконенавистничество. Под последними он имел в виду черносотенство, в котором практическое безбожие и сатанизм выдаются за учение Христа.
Недостаток подлинно религиозного элемента, общения с Богом в гуманистическом социализме может привести к тому, что даже при победе социалистических преобразований при внешнем объединении людей в социальном муравейнике сохранятся одиночество и разъединённость, так как действительное объединение людей может быть, по мнению автора, только в религии, в религиозно-мистическом союзе веры и любви, утверждённом на фундаменте церкви. В атеистическом социализме есть мертвенность и духовное опустошение. Он носит буржуазный мещанский характер.
С другой стороны, следуя мысли В. Соловьёва о христианской культуре, С. Н. Булгаков призывает церковь покончить с расколом на религиозную и светскую жизнь, включить культурное творчество и социальное служение в сферу религии. Церковная жизнь должна осуществляться на основе свободного общения и соборного творчества. Политическая и социальная жизнь потеряла бы тогда прозаический оттенок, бескрылость, получила бы вдохновенный и пророческий характер.
По мнению С. Н. Булгакова любовь к человеку и любовь к Богу тесно связаны. Современное гуманистическое мировоззрение отвергло веру в Бога, но удержало в себе некоторые стороны этой веры. Это любовь к ближнему в виде альтруизма, вера в божественность человека - человекобога, вера в его спасение в виде веры в прогресс. Однако смертность человека и всего человеческого рода ведёт к утрате веры в человека. Похороны Бога превращаются в похороны самих похоронщиков. На смену гуманизму приходит индивидуалистический нигилизм, силящийся стать по ту сторону добра и зла. Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни заползают в душу.
Всё это следствие упадка религиозного отношения к миру. Этот пессимизм можно, по С. Н. Булгакову, рассматривать и позитивной точки зрения, как признак здоровой реакции человека на утрату Бога. Цивилизация, воздвигнутая без Бога неизбежно должна быть мрачной, ведь она не удовлетворяет тягу человека к высшему. Поэтому вряд ли сама по себе социалистическая общественная реформа приведёт к возрождению личности. И в новом строе личность может оказаться опустошённой и морально разлагающейся. Пессимизм излечивается только религией.
Для христианства социализм может быть только одним историческим эпизодом. Но эпизодом необходимым. С. Н. Булгаков склонен был рассматривать в начале своей политической деятельности гуманистический период развития человечества как диалектический момент развития, в котором происходит проба сил человека, освободившегося от божественной опеки. Это религиозный антитезис, который должен привести, по его мысли, к Богочеловеческому синтезу. Позже в 1917 году он начинает относиться к христианскому социализму более критически.
Безбожный социализм пребывает в самообольщении, считая, что при помощи социальных преобразования можно устранить коренные причины страданий и вообще решить, как бы мы сейчас это назвали, экзистенциальные проблемы жизни человека. Торжество социализма не внесло бы в мир ничего существенного. И при этом строе будут страдать и умирать люди. Таким образом, согласно С. Н. Булгакову, атеистический социализм обещает человеку и слишком мало и слишком много.
Более того, возможно, достижение комфорта и избавление от страданий, достижение мещанского счастья вредны для человека, ибо приводят к духовному падению, подавлению духа. Гуманизм же хочет устранить все страдания человека. С. Н. Булгаков начинает сомневаться в благодетельности экономического освобождения работников. В частности, уменьшение рабочего дня вовсе не обязательно приведёт к благу для рабочих. До короткого рабочего дня нужно ещё духовно дорасти. Подлинной свободы нельзя достичь только развитием производительных сил. Подлинная свобода от хозяйства носит духовный характер и не нуждается в свободе через хозяйство. Христианин не может признавать экономику первичной и отдаваться хозяйству до конца. Он должен духовно возвышаться над ним.
По своему паллиативному характеру социализм есть просто одна из форм благотворительности. В социализме как совокупности мер социальной политики нет ничего, что бы не соответствовало христианской морали. Но по своему духовному смыслу социализм - это лжепророчество, которое уводит от Христа. Он считает, что достаточно отменить частную собственность, чтобы покончить с человеческими пороками. Такая позиция не выдерживает критики.
Христианский мыслитель считает, что в философии гуманизма масса противоречий. С одной стороны, провозглашается вера в человека, с другой стороны, человек рассматривается как продукт социальных обстоятельств, игрушка социальных сил. Экономический материализм сводит общественную жизнь к борьбе частных материальных интересов. Если он прав, тогда невозможно достижение действительного объединения людей. Это равносильно ожиданию, что из волчьей стаи родится человеческое братство.
Итак, с одной стороны, гуманистический социализм, как идейное и политическое движение вобрал в себя некоторые идеи христианства, и, поэтому может быть поддержан христианами. С другой стороны, из-за того, что он пытается стать заместителем христианской религии и носит атеистический характер, он должен быть отвергнут.
Представляется, что преодоление мещанства может быть достигнуто и нерелигиозными средствами. Сам С. Н. Булгаков пишет, что отрицанием мещанства может быть всякая духовная жизнь, как умственная, так и эстетическая. (Булгаков С. Н., 1993, с. 128.) Там же он отмечает, что вера в прогресс у гуманистов может рассматриваться как признак религиозности, и, в этом смысле, антимещанства. Кроме того, сам С. Н. Булгаков неоднократно подчёркивает героизм и самопожертвование представителей «гуманистической церкви», проявленные в борьбе за права угнетённых и эксплуатируемых. Таким образом, нельзя ставить знак равенства между гуманизмом и мещанством.
Наконец, следует рассмотреть вопрос о том, должно ли христианство поддерживать усилия по достижению свободы от хозяйства в хозяйстве, а не только попытки духовно возвыситься над ним. Если признавать историю как Богочеловеческий процесс, руководимый Божественным Провидением, то борьбу человека за свободу от материальных факторов следует признать существенным моментом истории. Овладение силами экономики есть тоже прогресс в реальной свободе человечества. «Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своего собственного объединения в общество... Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей... Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы». (Энгельс Ф., 1983. с.288)
Нам представляется, что С. Н. Булгаков верно подметил внутреннюю связь между христианским учением и общественным строем демократического социализма. Действительно, утверждение высшей ценности личности и выполнение заповеди любви к ближнему логично ведут к отрицанию как насилия, угнетения, так и эксплуатации одних людей другими. Во всяком случае, открытая тирания и безудержный капитализм явно противоречат духу христианства. Однако, С. Н. Булгаков несколько упростил духовную основу гуманистического социалистического движения. В нём есть потенции как мещанской, буржуазной трактовки, так и потенции героического гуманизма, понимающего высшее достоинство человека и находящего его в творчестве мира культуры. (Бузгалин А. В., 1996, с.29) Будущий справедливый общественный строй – демократический социализм должен, на наш взгляд, органично вобрать в себя достижения как гуманистической, так и религиозной мысли.
Библиографический список
Бузгалин А. В. Будущее коммунизма. М.,1996. 111с.
Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена// Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т.2. – М.,1993. – С.95 - 130.
Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1991. 416 с.
Гутьеррес Г. Теология освобождения// Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты ХХ века. – М.,1994 – С.204 - 213.
Христианский социализм (С. Н. Булгаков): Споры о судьбах России. Новосибирск, 1991. 350 с.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом. М.,1983. 483 с.
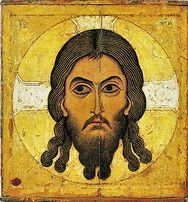


Комментарии