Запад еще вспомнит Мубарака с ностальгией
«Военным надо брать власть в свои руки и прекратить беспорядки. Только армия может предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Надеюсь, что к власти придут военные», – это пожелание было высказано за неделю до ухода Хосни Мубарака с президентского поста.
Его автор – не политик и не дипломат, не политолог и не эксперт по вопросам международной безопасности, а участник интернет-форума самого массового из германоязычных СМИ – газеты Bild. Аналогичные предположения можно было встретить и на других форумах: «Для того чтобы стабилизировать ситуацию в Северной Африке, нужна надежная армия. Народ требует реформ, перемен. Но реформы будут успешными только в условиях стабильности, а ее можно гарантировать только при участии вооруженных сил». Прозорливость этих оценок, делающая честь их авторам, свидетельствует о том неподдельном интересе, который события в Египте вызвали во всем немецком обществе, а также о достаточно глубокой осведомленности относительно ситуации в этой ближневосточной стране. Что же там произошло?
Такой интерес отчасти может объясняться известной любовью немцев к путешествиям по всему миру: 1,2 миллиона человек ежегодно отдыхают в Египте, то есть по числу приезжающих Германия находится на третьем месте после России и Великобритании. Впрочем, заурядное туристическое любопытство не распространяется на внутриполитическую проблематику: недавний опрос общественного мнения подтвердил, что туристам безразлично, произойдет ли в Египте поворот от авторитарного режима к демократии. Только 14 процентов потенциальных туристов (в основном состоятельные люди) озабочены этим вопросом, а остальных волнуют сугубо меркантильные соображения.
Примечательная особенность немецкоязычной аудитории в восприятии массовых антиправительственных выступлений в Египте заключается в том, что многие проводили параллель с событиями 20-летней давности в самой Германии, завершившимися объединением страны. Уже волнения в Тунисе немецкая политическая элита стала рассматривать именно как волну демократизации, достигшую наконец Арабского Востока.
На специальном заседании бундестага представители партии зеленых восторженно сравнивали Триполи с Гданьском. Тунисские волнения западные журналисты окрестили «жасминовой революцией». Безусловно, такой гламурный флер используется в пропагандистских целях для выстраивания ассоциативного ряда с чередой «демократических революций» в странах СНГ. Когда-то приход к власти Михаила Саакашвили западная пресса назвала «революцией роз», а устранение президента Аскара Акаева – «революцией тюльпанов».
С Египтом, правда, вышла заминка, хотя, казалось бы, цветок подобрать несложно: «революция лотосов» – чем не вариант? Но дело в том, что о революции в Египте говорили демократически настроенные романтики, те, кто опасается исламизации, предпочитали описывать происходящее как хаос или беспорядки, а официальные лица выбирали нейтральные термины – кризис/выступления/волнения.
В стремлении действовать по обстоятельствам всех немецких политиков превзошла канцлер Ангела Меркель. Только после объявления об отставке Мубарака она заявила, что бывший президент тем самым «оказал добрую услугу» своему народу, хотя за несколько дней до того уверяла, что такая отставка была бы нежелательной. Столь явная непоследовательность не способствовала росту популярности госпожи бундесканцлерин, которую теперь на родине нередко называют «политическим флюгером».
Много саркастических замечаний высказано немецкими интернет-пользователями не только в порядке комментариев к актуальным событиям, но и применительно к западной дипломатии в целом. «Уму непостижимо! Там народ борется за демократию и свободу, а единственная реакция «свободного» Запада – это страх, как бы не стало хуже. Эй, это же демократия! Народ добивается свободы в борьбе против единоличного властителя, которого обхаживал Запад и который 30 лет заставлял свой народ жить в условиях несвободы». «Запад несколько десятилетий поддерживал Мубарака и благосклонно смотрел, как тот угнетает и эксплуатирует собственный народ. Диктатура им милее, чем демократия, ведь она приносит стабильность».
Нередко проводилась параллель с политикой США в Латинской Америке: «Так всегда было и есть не только на Ближнем Востоке, у всех на памяти бесконечные проблемы американцев с Латинской Америкой. Без исключения каждый диктатор получал поддержку США и все во имя спокойствия и стабильности». «А что, американцы боролись с диктатурами на собственном континенте? Нет, только с левыми режимами, которые им мешали. Только права человека тут ни при чем, скорее бананы и нефть».
Менее эмоционально, но по сути аналогичным образом высказывались оппозиционные политики. От имени Левой партии ее председатель – Гезине Лётцш обратилась к ЕС с призывом отказаться от двойной морали по отношению к арабскому миру: «Европа должна поддержать демократические преобразования и думать не только о том, что арабские государства обеспечивают доступ к нефтяным богатствам региона». Ту многообразную поддержку, которую в течение длительного времени оказывали арабским режимам западные страны, она назвала сомнительной. Упрек в «безграничной» двойной морали бросили в лицо западной дипломатии представители партии зеленых.
Крупнейшая оппозиционная партия – социал-демократы – заняла более прагматичную позицию. Гернот Эрлер, опытный дипломат, бывший секретарь Министерства иностранных дел, предложил своим облеченным властью коллегам, не впадая в панику, поспешить с формулировкой конкретных предложений, которые обеспечили бы поддержку демократического процесса, одновременно преграждая радикальным силам исламистов легитимный путь к власти. Эта концепция, которую в принципе разделяют партии нынешней правящей коалиции, отражает опасения части западных политических элит перед исламизацией арабских стран, которая при самом нежелательном варианте может пойти по иранскому сценарию. Стоит напомнить, что исламская революция в Иране начиналась с выступлений под прозападными демократическими лозунгами.
Между тем по мере нагнетания обстановки в Каире, особенно после сообщений о враждебности по отношению к западным журналистам, немецкие газеты сделали потрясающее открытие: представление о свободе и демократии арабов отличается от европейского. В прессе появились следующие сентенции: «Жители Египта хотят свободы, чтобы превратить свою страну в фундаменталистское, несветское государство. Хотят свободы, чтобы снова объявить Израиль врагом, разрушить связи с Америкой. Все это не может отвечать нашим интересам. Нам нужен Египет как союзник в хронически взрывоопасном регионе мира». Другое тревожное высказывание политического комментатора: «Мы все должны радоваться, но я не радуюсь. Не знаю, что будет потом. Террор, хиджаб, исламское государство, забивание камнями за супружескую измену?».
Такого рода идеи были на лету подхвачены читательской аудиторией: ведь исламская угроза аккумулирует в себе и страх перед терроризмом, и апокалипсические картины гибели европейской цивилизации под натиском исламской иммиграции. Проблема совместного проживания с людьми исламской культуры стоит в Германии очень остро. Лавина возмущения обрушилась на президента Германии Кристиана Вульфа, когда в октябре прошлого года в речи, посвященной юбилею воссоединения Германии, он заявил, что ислам является неотъемлемой частью Германии. Тогда за сутки в онлайновый почтовый ящик Вульфа поступило более тысячи писем, большинство авторов которых решительно протестовали против заигрывания с мусульманами: «Люди просто боятся говорить правду, потому что мусульмане, неважно – турки, или албанцы, или кто-то еще, презирают немцев.
А наши политики слишком трусливы для того, чтобы честно обсуждать проблемы».
Вообще-то смельчак нашелся, но только теперь это бывший политик. Социал-демократ Тило Саррацин после публикации книги «Германия самоликвидируется» (2010) был вынужден уйти с поста члена правления Бундесбанка и покинуть ряды своей партии. При этом 70 процентов населения Германии одобряют идеи автора, а провал модели мультикультурного общества признала сама госпожа бундесканцлерин.
Неудивительно, что перспектива прихода к власти в Египте радикального исламистского движения «Братья-мусульмане» воспринимается через призму внутригерманских проблем. «Когда наконец Запад осознает, что не может быть процветающего соседства с людьми исламского вероисповедания? Где на этой планете христиане и мусульмане живут рядом в гармонии? Пожалуйста, назовите хотя бы одну-единственную страну!». Читатель консервативной Frankfurter Allgemeine рассуждает: «Это страна, где 90 процентов населения – приверженцы ислама, где даже на правительственном уровне бытуют симпатии к «Братьям-мусульманам» и «Аль-Каиде». Конечно, существующее правительство похоже на диктатуру, но если Египет станет центром распространяющегося исламизма, нужно спросить себя, какие последствия может иметь демократический выбор».
Философией премудрого пескаря (как бы чего не вышло) руководствуются также читатели Zeit: «Конечно, уличная толпа требует демократии, свободы и т. д., но что она получит в итоге? Есть опасность, что беспорядки станут нарастать и ситуация выйдет из-под контроля».
На форуме Spiegel развернулась настоящая словесная баталия между сочувствующими революции и теми, кто за контрреволюцию. Последние рубят с плеча: «Почему фараон не слушает свой народ? Отвечу: потому что не нужно слушать эти вопли фундаменталистов. Во всех арабских странах с прозападной ориентацией люди кричат, что им нужно больше демократии. А потом они просыпаются, протирают глаза и понимают, что лучше бы было не драть глотки. Ну так зачем фараон должен слушать свой народ?».
Некоторые люди предсказывают, что после эйфории у населения Египта наступит разочарование и западные страны еще с ностальгией вспомнят старого доброго друга Мубарака. В общем, «давайте все-таки помнить, что если Мубарак и свинья, то это наша свинья».
Неразрешимая дилемма
Таким образом, в принципиальной оценке происходящего в Египте немецкое общество раскололось надвое – на оптимистов и осторожных реалистов. Недавний социологический опрос показал, что чувство радости испытывают 43 процента населения, а 52 процентам происходящее внушает беспокойство. Столь же двойственное отношение присутствует и среди политической элиты. Часть ее считает: падение режимов в Тунисе и Египте показало, что авторитарные политические системы не гарантируют стабильность – значит, Западу нужно последовательно добиваться демократических преобразований. Сторонники такого подхода предлагают разработать едва ли не новый план Маршалла, чтобы наверстать упущенное.
Помощь в построении демократических структур Германия предлагает обеим арабским странам. В Тунисе уже побывал с визитом министр иностранных дел, пообещавший выделить три миллиона евро для Фонда поддержки демократии и 500 тысяч – на программы студенческого обмена. Кроме того, Берлин намерен добиться в рамках ЕС снятия ограничений на внешнеторговые операции с Тунисом. Министр по связям с развивающимися странами Дирк Нибель заявил о выделении Египту 11 миллионов евро, в том числе 3 миллионов – для политических фондов и 8 миллионов – на развитие системы образования. Германский МИД устами государственного министра Вернера Хойера изъявил готовность оказывать любую помощь, которая потребуется, для этого предполагается перераспределить бюджет или выделить дополнительные средства. Нельзя сказать, чтобы подобная щедрость вызвала большой энтузиазм простых немцев, которые считают, что и дома есть куда тратить средства налогоплательщиков. Слово читателям Bild: «Египет – богатая страна, а этот паук Нибель предлагает 11 миллионов! Для своих граждан денег нет, зато другим найдется». «Народные представители уже разбрасываются нашими налогами!». По результатам опроса, проведенного в начале февраля, 56 процентов населения считают нецелесообразным выделение финансовой помощи на проведение в Египте демократических преобразований – будь то из федерального бюджета или через Евросоюз. И это понятно: в условиях продолжающегося долгового кризиса в ЕС и нестабильности еврозоны Германии приходится брать на себя существенные финансовые обязательства.
Не стоит обвинять немцев в скаредности еще и потому, что режиму Мубарака только в течение предшествующих трех лет федеральное правительство перечислило на цели демократических преобразований 39 миллионов евро. Результат известен. Где взять уверенность, что отныне выделенные деньги действительно приведут к демократизации?
По большому счету далеко не бесспорна и сама идея превратить Египет и (или) Тунис в маяки демократии для всего арабского региона, к чему призывает, например, министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Видно, не так уж несправедливы были иронические замечания посла США в Германии о некомпетентности министра, преданные огласке сайтом Wikileaks. Ведь идея соорудить такой маяк для арабского мира усилиями западных союзников не только не нова – она уже провалилась.
Как рассказывает в своих мемуарах Ричард Кларк, исполнявший обязанности координатора по безопасности в администрации Джорджа Буша, одним из побудительных мотивов войны в Ираке был расчет создать арабскую демократию, которая послужила бы примером для дружественно настроенных арабских стран (между прочим к числу этих стран был отнесен и Египет). Казалось бы, в Ираке налицо все предпосылки для реализации такого идеального сценария: диктатор повешен, есть нефть и газ, доходы от которых обеспечат социальную стабильность, но игра в демократию не захватила иракцев. К слову, сейчас многие немцы не верят, что Египет пойдет по демократическому пути развития: согласно данным опроса таких скептиков 34 процента.
А эксперты, близкие к федеральному правительству, полагают, что для стран Ближнего Востока уже есть готовый образец для подражания – Турция. Это значит, что во имя стабильности западные страны по-прежнему будут закрывать глаза на отступления от демократических норм. Кроме стабильности, у двойственной стратегии западной дипломатии появился и новый фактор для оправдания: конкуренция со стороны Китая. Вот как об этом говорит опытный дипломат, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, который в настоящее время организует ежегодные Мюнхенские конференции по безопасности: «Возьмем для примера Африку. Европейцы связывают свои кредиты с выполнением определенных критериев в области прав человека. Китайцы не беспокоятся на этот счет и ясно дают понять африканским правительствам, что эти стандарты имеют для Пекина второстепенное значение. И африканские государства берут у Китая деньги. Это успех для Европы? Я считаю – нет».
Так что события в Египте не приблизили решение дилеммы между идеологией и практикой дипломатии, а лишь наглядно ее представили.


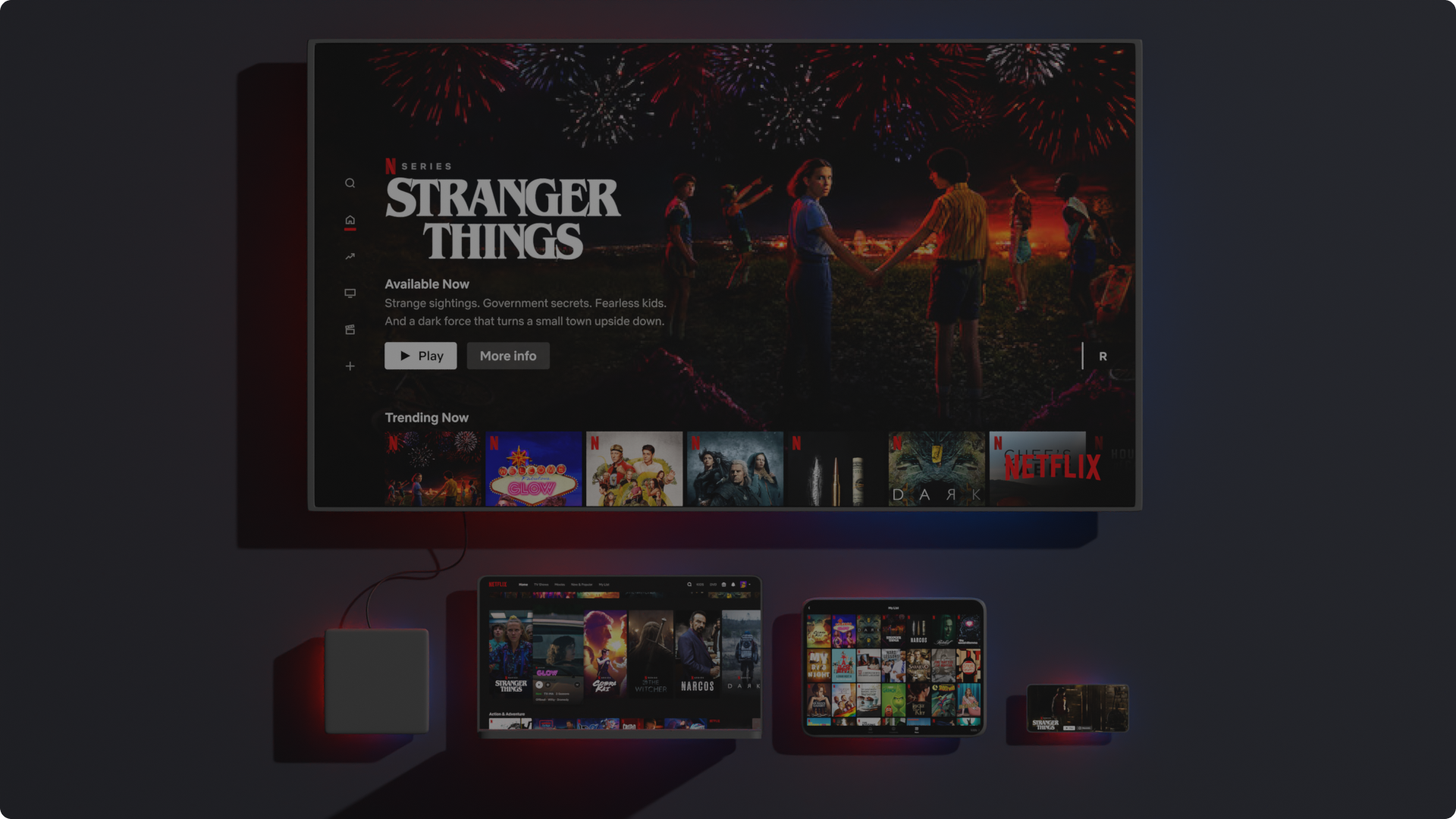



Комментарии
Ненадолго это все - бизнес, канал. Пока люди и на западе, и везде "своих" упырей на солнышко не вытащат, так все и будет валиться