Мой отец, Алексей Николаевич Гавринев, родился в Одоеве — одном из старейших городов бывшей Тульской губернии. Здесь он в 1908 году окончил курс обучения в городском начальном народном училище.
 |
| Мой отец, Алексей Николаевич Гавринев, в 19... году. |
Отец был человеком впечатлительным. Уже в раннем школьном возрасте прильнул к православию, изучил церковно-славянский язык и церковные обряды. Любил посещать богослужения, особенно в неторжественные дни, когда можно было забыть о мирской суете и в уединении созерцать. Радость ему доставляло участие в народных праздниках, особенно на прославленных и трогательных «птичьих базарах», когда на праздник Благовещенье Пресвятой Богородицы выпускали из клеток на волю заранее словленных певчих птиц. Обычай выпускать на волю птичку напоминал о радости, которую принесла всему миру весть, что скоро родится Спаситель мира.
 |
| В Киеве от смерти отца спасла сестра милосердия, успевшая его спрятать в подвальном помещении больницы. |
Отец любил природу и особенно пернатых обитателей своего родного края. В свободное время он ходил в поле, в лес или на реку и наблюдал за их повадками в разные времена года. Принимал также участие в кольцевании птиц, которых ловил собственноручно в изготовленные западни, заманивая их на манок. Когда он рассказывал об этом, в его голосе можно было заслышать какой-то юный задор. Не раз отец меня удивлял обширными сведениями о птицах, названия которых он знал не только на русском, но и на латинском языках. С некоторыми названиями, подслушанными мною от отца, такими как зуек-галстучник, пеструшка-мухоловка или горихвостка, я позже никогда не встретился. Возможно, они являются местными, краевыми наименованиями.
После окончания учебы в Одоевском приходском училище, мой отец вместе с родителями переехал на новое место жительства в Тулу — город, прославившийся своими мастерами-оружейниками. Помимо казенных Тульского Оружейного и Патронного заводов, на которых работали так называемые «казюки», в городе было много оружейников-кустарей, работающих самостоятельно по домам. Эти кустари сосредотачивались в зависимости от их специализации по отдельным улицам, получившим соответствующие названия — Курковая, Ствольная, Замочная, Штыковая и т. п.
Новый дом родителей находился неподалеку от улиц с диковинными названиями — Первая и Вторая Миллионная. На них в то время проживали богатые коммерсанты, преимущественно евреи. Они скупали от мелких тульских кустарей их изделия и затем перепродавали оптом. Эти скупщики договаривались между собой на необычном для местных языке — идише. Отец был любознательным и стал прислушиваться, затем повторять и вскоре с помощью своих сверстников еврейского происхождения настолько его освоил, что мог свободно общаться. Это ему впоследствии очень пригодилось.
В Туле отец поступил в гимназию и одновременно вступил в ряды членов новосозданного физкультурного общества«Русский сокол». Здесь он в Народном доме под руководством чешских преподавателей не только укреплял физические силы, но и воспитывался на идеях всеславянского единства.
Когда вспыхнула Первая мировая война — ее тогда называли Великой — в России началось движение славян за освобождение от Австро-Венгрии. Особенный отклик нашло это движение среди студенческой молодежи, и мой отец заявил о своем желании вступить добровольцем в армию. Но призывная комиссия ему сначала отказала, т. к. призывной возраст тогда был 20 лет, а ему было только 19. Однако, учтя его горячее желание, комиссия его «состарила», записав ему в воинский билет дату рождения на год раньше. По собственному желанию еще во время обучения отец был направлен на фронт. Туляки тогда с любовью, тепло провожали новобранцев, уходящих на войну, устилая им дорогу цветами.
При смене боевых частей в траншеях на передовой отец встретился со своим старшим братом Николаем. Эта встреча оказалась для них последней… И моему отцу пришлось испытать все лишения боевой обстановки, получить неоднократные ранения, но он все преодолел.
В 1915 году Русская армия после победоносного продвижения в Восточную Пруссию, попала в окружение германскими войсками в Августовских лесах, русские гвардейские полки понесли большие потери. Поэтому Верховное командование (ставка) решило пополнить эти полки выпускниками вузов и средних школ. Моего отца откомандировали в Лейб-Гвардии Е. И. В. Николая II Царско-Сельский стрелковый полк. Здесь он служил в должности младшего офицера — подпоручика.
В 1916 году уроженка Тульской губернии княгиня Ан. Ал. Голицына заказала в Швейцарии специальное издание «Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа», предназначенное для раздачи офицерам гвардейских полков — его я и держу сейчас в руках. Эту книгу карманного формата в кожаном переплете с вязью на корешке и золотым обрезом получил и мой отец. Она сыграла не только в его жизни, но и в жизни многих других важную роль. Помогала спасать душу, а некоторым и жизнь, когда в ней застревала пуля…
После Октябрьского переворота 1917 года российское государство погрязло в братоубийственной Гражданской войне. Началась кошмарная вакханалия разрушения. Часть народа, отрекшаяся от веры отцов, уничтожала все государственные и нравственные устои, топила в крови все, что было в России святым. И моему отцу были тогда не чужды некоторые идеи социализма, ведь он был свидетелем стачек бедствующих тульских рабочих, живших в убогих лачугах, и последующих погромов. Различия в социальных условиях были огромные. «
Как это может существовать рядом?» —
говорило ему его сердце.
«Ломи, ребята, старый дом!» — прозвучал тогда один из многочисленных большевистских лозунгов. И немалая часть одураченного народа бросилась и завалила его. Так народ русский остался не только без дома своего, но и потерял посевы своей тысячелетней культуры. Отец вступил в Добровольческую армию. В первоначальном успешном наступлении отец дошел почти до родных мест, затем горькое отступление под натиском превосходящих сил красных. Частям Добровольческой армии под командованием генерала Михаила Скалона предстоял трудный пеший путь в направлении на Польшу для переформирования. Под Киевом отец заболел возвратным тифом. Его поместили в Киевскую городскую больницу. В это время на Украине началось наступление Красной армии, через пару дней в Киев вступили большевики. Добровольческая армия не успела вывезти всех раненных. В городе сразу начался красный террор и расправы, которые не миновали госпиталей. «Золотопогонников» закалывали штыками прямо на больничных койках. Но отца Бог хранил.
Его спасла сестра милосердия, успевшая его заблаговременно спрятать в подвальном помещении. Здесь отцу пришлось пробыть в течение всего времени, пока красные были в городе. Медсестра за ним тайно ухаживала. Когда красных выбили из Киева поляки-гетманцы, отец вышел из укрытия, но был арестован поляками и отправлен в лагерь под Перемышлем, где содержались интернированные бойцы Добровольческой армии. Прощаясь с сестрой милосердия, отец ее горячо благодарил за спасение, добро и ласку, которую она ему оказывала, и попросил от нее на память фотокарточку, которую потом хранил до конца своей жизни.
В лагере отец провел несколько месяцев, причем ежедневно перечитывал Новый завет, который ему придавал силу пережить все мытарства. Многие главы выучил наизусть. В переполненном лагере свирепствовала эпидемия тифа, санитарная часть не справлялась не было медикаментов. Кроме того, стояла лютая стужа. Интернированные солдаты были сильно ослаблены недоеданием — в день выдавали по котелку похлебки из бурака. Смертность была ужасающая. Однако в лагерь имели доступ местные евреи, приносившие продукты в обмен на часы, шинели, сапоги из офицерского обмундирования. Отец обменял все. Питался в основном куриными яйцами, которые ел сырыми. В конце концов, у отца для обмена остались только золотой нательный крестик и Новый завет. Руководствуясь девизом Добровольческой армии «Никогда не отчаиваться, но всегда действовать», он решил обменять свой крестик, однако с условием. Договорился на идиш с перекупщиками, чтобы ему принесли старый засаленный лапсердак (верхнее длиннополое платье у польских и галицких евреев) и шляпу — низкий еврейский котелок. Исхудалый и заросший отец переоделся и вышел из лагеря, не обратив на себя внимания лагерной охраны.
Днем отец должен был скрываться, а по ночам направлялся к границам Подкарпатской Руси, которая в 1918 году стала частью Чехословацкой Республики. По дороге питался чем попало. Кроме того, отец страдал от мысли, что покидает родную страну и родных, с которыми, может быть, уже не встретится… И здесь ему помогало превозмочь телесную слабость чтение Нового завета и непрерывная молитва.
Когда он подошел к подножью Карпат и взглянул на возвышающийся перед ним хребет, то ему показалось, что он сможет его преодолеть за несколько часов. Но ему потребовалось несколько суток. Поднимаясь впотьмах по скользкому склону, он скатился и упал в какую-то яму, присел отдохнуть и заснул. Проснулся от холода и, открыв глаза, увидел русского солдата с винтовкой и примкнутым штыком… наполовину засыпанного землей. Это была воронка от снаряда, а немного подальше окопы времен Брусиловского прорыва. В кармане солдата отец обнаружил воинский билет и письма родных. Позже отец эти документы вместе с письмом переслал семье через Международный Красный Крест.
Поднимаясь дальше в гору, он дошел до мест, где кончались заросли карликовой горной сосны и начинались горные луга. Здесь он залег, чтобы обследовать местность. В недалеком сосновом стланике он заметил какое-то движение, притих и ждал, что будет дальше. Когда в течение длительного времени ничего не произошло, начал бросать в этом направлении камешки. Но реакции не было. Тогда начал покрикивать. С противоположной стороны послышался ответ на русском языке. Оказалось, что там тоже скрывается беженец — однополчанин. Вдвоем стало идти легче. На горном лугу встретили молодого русина — чабана со стадом овец. Тот им посоветовал, как избежать встречи с чешскими жандармами, которые в то время охраняли границу, и как добраться до села, где находится сборный пункт для российских беженцев.
Прибыв туда, они как бы очутились в другом мире. Их гостеприимно приняли, накормили досыта, отправили выкупаться в баню, дали свежее нательное белье — вернулось подобие и достоинство человека. Однако долго там оставаться нельзя было. Надо было думать о возможностях заработка и дальнейшего устройства. Отец нанялся дровосеком на лесные разработки. А вскоре среди русинов его полюбили за добродушие и крепкую православную веру — местное население в то время возвращалось к вере своих предков — Православию. Но они испытывали острый недостаток в своей интеллигенции и православных священниках, поэтому обратились к отцу за помощью, и после формальной выучки отец стал диаконом, а потом протодиаконом. В этой должности у него произошла радостная встреча с его старым боевым другом Всеволодом Коломацким (в будущем архимандритом Андреем), который в то время воздвигал здесь новые православные церкви.
Для моего отца началась трудная эмигрантская жизнь, полная неожиданных поворотов. Много раз приходилось начинать все сызнова без каких-либо средств. Но он никогда не терял своего морального достоинства и всегда благодаря усердию и трудолюбию не только вновь поднимался, но и помогал другим. Просто жил по совести и по своему укладу, а я к нему присматривался.
Владимир Гавринев
Фото из семейного архива



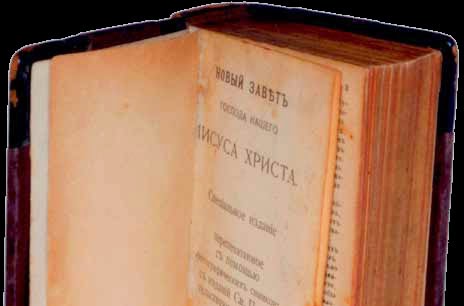




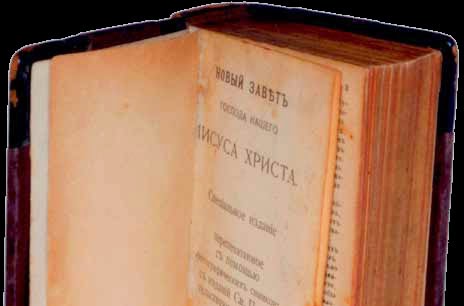
Комментарии