ББО Адмирал Ушаков.


ТТХ ББО(броненосец береговой обороны) Адмирал Ушаков:
Водоизмещение-4790тонн, скорость хода-16 узлов, Вооружение-2х2х254мм, 4х120мм, экипаж-400 человек.
Бронирование. Главный броневой пояс по ватерлинии имел длину 53 м и высоту 2,1 м с погружением в воду на 1,2 м. Пояс состоял из 30 стальных броневых плит, которые на протяжении кочегарных и машинного отделений имели толщину 254 мм с утонением к нижней кромке до 127 мм.
Барбеты башен образовывались восемью 152-мм плитами каждый. Сами башни были забронированы 178-мм плитами (по четыре плиты на башню), крыши их состояли из 38-мч броневых листов на 13-мм стальной рубашке. Наконец, боевая рубка защищалась двумя изогнутыми соответствующим образом 178-мм плитами. При этом рубка крепилась прямо к палубному настилу спардека и не имела бронированной трубы для проводов или иного прочного основания. Масса брони башен и рубки составляла около 205 т..
В Цусимском бою командиром ББО был родной брат знаменитого русского путешественика капитан 1 ранга В.Н.Миклухо-Маклай.

Ранее командовал:
Миноносец «Килия»
ББО «Новгород»
кан. лодка «Кубанец»
ББО «Не тронь меня»
плавбатарея «Первенец»
1-й флотский экипаж
Предки его — малороссийские дворяне. Относительно своего происхождения Миклухо-Маклай, старший брат Владимира Николаевича, сделал заметки на полях рукописи очерка о своей жизни и путешествиях, который ему представил для ознакомления Е. С. Томассен:
Мои предки родом из Украины, и были запорожскими казаками с Днепра. После аннексии Украины Степан, один из членов семьи, служил сотником (высшее казачье офицерское звание) под командованием генерала графа Румянцева и отличился при штурме турецкой крепости Очаков, указом Екатерины II было дано дворянское звание.
Материалы по книге:
В.Ю. ГРИБОВСКИЙ
И.И. ЧЕРНИКОВ
БРОНЕНОСЕЦ "АДМИРАЛ УШАКОВ" .
Неравный бой и гибель броненосца «Адмирал Ушаков»
14 мая около 20 ч, уже в темноте, «Император Николай I» склонился вправо и взял курс на Владивосток. За ним последовали корабли главных сил, некоторые крейсера и эсминцы. Как и во время похода, броненосцы 3-го отряда не пользовались прожекторами и выключили все отличительные огни, кроме кильватерных, позволявших им сохранять свое место в строю. Затемнение и увеличение скорости до 12 уз позволило им сравнительно быстро выйти из зоны минных атак. При этом кормовая башня «Адмирала Сенявина» под управлением мичмана А. С. Каськова добила поврежденный японский миноносец (№ 34 или № 35), оказавшийся без хода в свете прожекторов броненосцев 2-го отряда. За «Императором Николаем I» держался и тяжело поврежденный, но еще боеспособный броненосец «Орел», сохранивший полный ход и часть артиллерии.
Однако около 21 ч от флагмана стали отставать корабли, поврежденные в дневном бою и неспособные удерживать 12-узловую скорость. Так отстал и севший носом «Адмирал Ушаков», которого обошли «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин». К 23 ч 00 мин весь отряд совершенно скрылся из виду*. [* РГАВМФ. Ф. -117. Оп. 1. Д. 3595. Л. 123 об.]
Еще до 22 ч последние японские миноносцы отстали, и после тяжелого боя наступило затишье. В целях соблюдения скрытности В. Н. Миклуха категорически запретил стрельбу. Люди буквально валились с ног от страшной усталости. Лейтенант Н. Н. Дмитриев, оторвавшись, наконец, от своего цейсовского бинокля, уснул прямо на мостике. Мичман И. А. Дятлов, посетив кают-компанию, где были уложены убитые, и каюту, осиротевшую без матрацев, взятых для заделки пробоин, прилег на палубе. Сигнальщик П. А. Васильев посоветовал ему лечь на носилки между трубами, а потом укрыл мичмана пальто.
Не до сна было командиру В. Н. Миклухе и старшему штурману Е. А. Максимову, пытавшемуся в просветы между облаков увидеть звезды для определения места. К. полуночи ему удалось восстановить прокладку, и командир собрал совет из старших офицеров. На него подняли и артиллериста Н. Н. Дмитриева. Обсудив положение броненосца, совет единогласно высказался за продолжение похода на север. Было решено идти курсом норд-ост 23° (приказ адмирала), стараясь догнать Н. И. Небогатова, а если это не удастся, то прорываться во Владивосток самостоятельно. При этом старались не думать о возможной новой встрече с противником, появление его впереди по курсу посчитали маловероятным.
Н. Н. Дмитриев спустился в кают-компанию, где в обществе покойников спали на диванах офицеры, перекусил и отправился отдыхать в каюту. Около 5 ч 00 мин его разбудил мичман В. В. Голубев: «Вставай, Николай Николаевич, опять японцы идут».
Между тем впереди «Адмирала Ушакова», на расстоянии свыше 15 миль от него, во Владивосток шли остатки эскадры. С рассветом Н. И. Небогатов убедился, что ведет только броненосцы «Император Николай I», «Орел», «Адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и крейсер 2 ранга «Изумруд». Вскоре на горизонте начали появляться дымы японских кораблей. Вначале их приняли за своих, но это оказался 5-й боевой отряд вице-адмирала С. Катаока в составе четырех старых кораблей, которые сообщили об обнаружении русского отряда адмиралу X. Того. В 5 ч «Микаса» с 11 другими кораблями главных сил находился всего в 60 милях к северу от «Императора Николая I» и в 30 милях к юго-западу от острова Дажелет.
Н. И. Небогатов вел отряд в расставленные противником сети. Он попытался атаковать С. Катаока, но осторожный японский флагман, продолжая наблюдение, уклонился в сторону.
Около 10 ч пять русских кораблей оказались в полукольце боевых отрядов противника. В 10 ч 15 мин с дистанции около 43 кбт крейсер «Касуга» открыл огонь по «Императору Николаю I», затем открыли огонь и другие корабли. Вскоре в броненосец один за другим попали два снаряда среднего калибра. На русских кораблях по боевой тревоге все находились на постах и были готовы сражаться и умереть, потому что положение представлялось безнадежным. В ответ японцам прозвучало всего три выстрела: два из 152-мм башни «Орла», начавшего пристрелку по «Микаса», и один из 120-мм орудия «Апраксина», комендор которого «соблазнился удачной наводкой».
Ответный огонь в самом начале был прерван распоряжением Н. И. Небогатова: на «Императоре Николае I» взвился сигнал о сдаче, набранный по международному своду. Флагманский броненосец застопорил ход и вскоре поднял японский флаг. Адмирал, только накануне — в бою 14 мая явивший пример редкого мужества, неожиданно для большинства подчиненных решил прекратить сопротивление.
Возможно, в решительную минуту на него отрицательно подействовал совет командира «Императора Николая I» В. В. Смирнова, который отсиживался внизу, прикрываясь легким ранением. Несомненно, что Н. И. Небогатов был совершенно подавлен картиной гибели сильнейших кораблей флота под огнем неприятеля. Сыграло свою роль и подавляющие превосходство японцев в силах, а также доклад старшего артиллериста о недосягаемости японских кораблей для орудий «Императора Николая I» (возможно, лейтенант А, А. Пеликан, действительно, считал дистанцию большей 50 кбт из-за ошибочных показаний дальномера). Так или иначе, Н. И. Небогатов впоследствии мотивировал свое решение стремлением спасти 2000 жизней от неминуемой гибели. Объяснить его поступок можно, но оправдать нельзя.
Сигналу адмирала последовали «Орел», «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин». Быстроходный «Изумруд» под командованием капитана 2 ранга В. Н. Ферзена прорвался сквозь японский боевой порядок и ушел на север. У X. Того не было крейсеров, которые могли бы его догнать.
Характерно, что ни один из командиров броненосцев не решился проявить самостоятельность и хотя бы попытаться уничтожить свой корабль. Многие офицеры именно это и предлагали, протестуя против позорной сдачи. Среди них был и лейтенант М. С. Рощаковский, которого матросы справедливо считали героем сражения. Однако их голоса не были услышаны Н. И. Небогатовым, С. И. Григорьевым и Н. Г. Лишиным. Командовавший «Орлом» раненый старший офицер капитан 2 ранга К- Л. Шведе находился в более сложном положении: на поврежденном броненосце имелось много раненых, а все шлюпки были разбиты. Это потом учел военно-морской суд, освободивший его от ответственности. Командующий же отрядом, командиры и старшие офицеры трех исправных броненосцев были осуждены.
После визита Н. И. Небогатова на «Микаса» на сдавшиеся корабли высадились японские призовые команды и повели их в свои порты. Наскоро исправив незначительные повреждения, противник перекрасил трофеи, переименовав их в «Ики» («Император Николай I»), «Миносима» («Адмирал Сенявин») и «Окиносима («Генерал-адмирал Апраксин») в честь островов, вблизи которых состоялось «Великое сражение Японского моря» 14—15 мая 1905 г. Все эти корабли до окончания войны приняли участие в операциях против острова Сахалин*. [* «Ики» в 1905—1910 гг. был в составе японского флота в качестве учебного артиллерийского корабля, в 1910—1915 гг.— броненосца береговой обороны и учебного корабля школы юнг, в 1915—1918 гг.— корабля-цели, после чего исключен из состава флота и разломан. «Миносима» н 1907 г. был тяжело поврежден взрывом боеприпасов, но отремонтирован и состоял н японском флоте до 1928 г. «Окиносима» 10 лет после войны плавал учебным кораблем, а с 1915 по 1926 г. использовался в качестве блокшива.]
Днем 16 мая пленные корабли с японцами на борту проходили место дневного боя 14 мая, на поверхности воды плавали многочисленные обломки и трупы моряков. К огромным потерям в сражении добавилась и потеря чести. Многие офицеры и матросы сдавшихся кораблей на себе потом ощутили неприязнь товарищей но оружию: с ними не хотели жить в одном бараке и обедать в кают-компании. Правда, судовые священники броненосцев Н. И. Небогатова одобряли поведение адмирала, «пожалевшего матроса», да и многие матросы писали ему письма с выражением благодарности и соболезнования. Постепенно печать вины на рядовых участниках сдачи сгладилась, но главное ответственное лицо — Н. Н. Небогатов, несмотря на свое досрочное освобождение из крепости, носил ее всю жизнь и был вынужден забрать сына из Морского корпуса.
Иначе сложилась судьба броненосца «Адмирал Ушаков». В 5 ч 15 мая он обнаружил на горизонте далекие дымы отряда Н. И. Небогатова и удаляющихся ветеранов С. Катаока. Некоторое время В. Н. Миклуха безуспешно пытался сблизиться со своим флагманом, связаться с ним было невозможно: в дневном бою осколком перебило антенну радиотелеграфа.
В 8 ч пробили боевую тревогу — с правого борта показался быстроходный японский крейсер «Титосе» (4800 т). Под флагом вице-адмирала С. Дева этот крейсер вместе с эсминцем «Ариакэ» спешил присоединиться к главным силам, только что потопив поврежденный 14 мая русский эсминец «Безупречный». С. Дева шел из залива Абурадани, где он оставил «Касаги» заделывать пробоину. Бросив на произвол судьбы моряков затонувшего после неравного боя «Безупречного», японский адмирал натолкнулся на броненосец «Адмирал Ушаков». Позднее он доложил, что не обратил внимания на встреченные им вражеские суда, покривив при этом душой. На самом деле «Титосе», сблизившись до 35—40 кбт, лег на параллельный курс с целью выяснить обстановку.
Но броненосец, хотя и небольшой, даже подбитый значительно превосходил по боевой мощи потерявший скорость беззащитный эсминец. В. Н. Миклуха объявил боевую тревогу и навел на «Титосе» орудия, демонстрируя готовность к бою. С. Дева не принял вызова, его крейсер поспешно отвернул в сторону и стал удаляться. Догнать его не представлялось возможным. Лейтенант Н. Н. Дмитриев предложил разрядить в «Титосе« кормовую башню, но В. Н. Миклуха не согласился — он не хотел привлекать внимания других кораблей противника. «Титосе» вскоре скрылся из виду, и командир «Адмирала Ушакова» повернул почти прямо на восток, обходя вероятное место неприятельской эскадры.
В 6 ч на броненосце совершили погребение убитых матросов. Над телами, покрытыми Андреевским флагом, судовой священник отец Иона, бледный от пережитого волнения, творил молитву. Еще не старый, добрый и скромный человек, священник в бою квалифицированно помогал доктору П. В. Бодянскому — в свое время он служил фельдшером в стрелковом полку. Церемония погребения покойников, сброшенных по морскому обычаю в воду, произвела на всех тягостное впечатление.
В бою под защиту барбета башни и противоположную от противника сторону пришлось перенести операционный пункт, находившийся в мирное время в жилой палубе без всякого прикрытия. В нем, рядом с кают-компанией, работали судовой врач и фельдшер Порфирий Лежневский, а в носовом перевязочном пункте—отец Иона с санитаром.
Восточным курсом «Адмирал Ушаков» прошел почти 30 миль. За это время командир вновь собрал военный совет. На нем было решено отворачивать от всех замеченных дымов, стараясь затеряться в море, а ночью идти на север в надежде дойти до Владивостока или Татарского пролива*. [* Дитлов Н. А. Указ соч. С 497.]
Как на зло 15 мая установилась отличная погода с хорошей видимостью, ярко светило солнце, полностью разогнав вчерашние мглу и туман. В одиннадцатом часу вдалеке послышались выстрелы и через 5 мин неожиданно стихли (это были выстрелы, предшествовавшие сдаче отряда Н. И. Небогатова). В. Н. Миклуха собрался было идти на выручку своих, но вскоре опять повернул в сторону — шансы на соединение были слишком малы.
Неоднократно броненосец изменил курс, уклоняясь от обнаруженных дымов. Настроение было подавленное. За обедом в кают-компании невозмутимый старший офицер А. А. Мусатов позволил себе мрачную шутку: «Ну, покойнички, выпьем». Ф. Ф. Ушаков печально смотрел на офицеров из своей рамы...
В полдень* изменили курс на северо-запад — к Корейскому берегу. [* По рапорту Е. А. Максимова — в 10 ч 00 мин.] Два часа после этого дымов не наблюдалось, и у экипажа появилась надежда на прорыв. Однако с 14 ч 00 мин дымы стали окружать корабль со всех сторон. Броненосец, по выражению Н. Н. Дмитриева, словно попал в «магическое кольцо». Вскоре после 15 ч справа по носу показался неприятельский отряд. Его корабли на «Адмирале Ушакове» были классифицированы как броненосцы и броненосные крейсера.
На самом деле броненосный крейсер «Ивате», флагманский корабль контр-адмирала X. Симамура, еще до 14 ч обнаружил на юге броненосец «Адмирал Ушаков» — единственный из 12 русских броненосцев, оставшийся боеспособным, и дал оповещение по флоту. Около 15 ч вице-адмирал X. Камимура направил против последнего корабля противника своего младшего флагмана с крейсерами «Ивате» и «Якумо» (табл. 23).
По тактико-техническим элементам японские корабли превосходили «Адмирала Ушакова», поэтому контр-адмиралу X. Симамуре успех был гарантирован. Двукратный перевес японцев в скорости обеспечивал занятие выгодной позиции, а огневая мощь позволяла нанести тяжелые повреждения сравнительно небольшому русскому кораблю, не имевшему броневой защиты оконечностей и средней артиллерии. Правда, 254-мм орудия «Адмирала Ушакова» представляли серьезную угрозу, но вероятность вывести из строя одним снарядом 10000-тонный и достаточно полно забронированный корабль была ничтожной, а последующих попаданий крейсера могли легко избежать маневрированием.
Еще при обнаружении грозного противника «Адмирал Ушаков» повернул на юг, и теперь японцам пришлось его догонять. Только около 17 ч расстояние уменьшилось до 80 кбт. В 16 ч 50 мин X. Симамура, следуя полученному от адмирала X. Того приказанию, распорядился поднять сигнал по международному своду: «Ваш флагман сдался, предлагаю Вам сдаться». Одновременно на «Ивате» взвились боевые стеньговые флаги.
«Адмирал Ушаков» тем временем тщетно пытался развить скорость более 9—10 уз. Сигнальщики вначале приняли крейсера за своих, но командир был уверен, что это японцы. Он вызвал на мостик старшего минного офицера Б. К. Жданова и приказал ему приготовить к подрыву трубы кингстонов и циркуляционных насосов. С мостика полетели за борт лишнее дерево и парусина, остались лишь пробковые матросские койки для защиты от осколков.
Очередной совет офицеров единогласно решил «драться, пока хватит сил, а потом уничтожить броненосец»*. [* Дмитриев Н. Н, Указ. соч. С. 69.] У подчиненных В. Н. Миклухи не появилось и мысли о возможной сдаче. С приближением противника пробили боевую тревогу. Давая поручение священнику на случай своей гибели, И. А. Дитлов не мог сдержать волнения. Отец Иона заверил мичмана: «Хорошо, все сделаю, если Бог спасет, а ты успокойся, а то команда увидит»*. [* Дитлов И. А. Указ. соч. С. 498.] Все офицеры и матросы прощались друг с другом.
Сигнал, поднятый на «Ивате», разобрали не сразу. Противник успел еще приблизиться и, подвернув вправо, лег на параллельный курс: «Адмиралу Ушакову» предстояло сражаться поврежденным правым бортом. На стеньге японского флагманского корабля с броненосца заметили и российский коммерческий флаг. Командир В. Н. Миклуха приказал подготовить и поднять до половины ответ международного свода. По «короткой тревоге» пушки навели на противника, в ответ на холостой выстрел нетерпеливых японцев кормовая башня лейтенанта А. П. Гезехуса произвела боевой залп. Но X. Симамура проявил выдержку, и командир «Адмирала Ушакова» в надежде потянуть время распорядился сыграть «дробь».
Наконец разобрали половину сигнала: «Советую Вам сдать Ваш корабль...».* [* РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3595. Л. 124.] «Ну, а продолжение и разбирать нечего,— сказал В. Н. Миклуха,— долой ответ, открывайте огонь». По воспоминаниям Н. Н. Дмитриева, в боях 14 и 15 мая командир был на редкость спокоен.
Броненосец немедленно открыл огонь по «Ивате» из обеих башен и двух 120-мм орудий правого борта. Точные по направлению выстрелы сразу начали давать недолеты. Японцы, спустив бесполезный сигнал, в 17 ч 10 мин ответили с дистанции около 49 кбт. Недолеты и большой разброс снарядов «Адмирала Ушакова», возможно, наряду с погрешностями дальномера, объяснялись износом орудий и установок. Малейшая течь гидравлики башен не позволяла фиксировать положение орудий.
Не исключалась и «сдача» под воздействием сотрясения подъемных механизмов 120-мм пушек. Недолеты заставили В. Н. Миклуху повернуть для сближения с неприятелем.
Вокруг броненосца выросли столбы разрывов начиненных шимозой снарядов, по надстройкам застучали мелкие осколки. Прислуга мелкой артиллерии, как и 14 мая, была убрана вниз, наверху оставались сигнальщики с мичманами Я. В. Сипягиным и А. А. Транзе, лейтенант Н. Н. Дмитриев и бессменный на боевой тревоге часовой у флага — квартирмейстер Василий Прокопович.
Стремясь маневрировать на фоне низкого солнца, японцы в то же время не хотели сокращать дистанцию. Этим, по совету старшего артиллериста, воспользовался В. Н. Миклуха: броненосец постоянно подворачивал вправо — к западу, сближаясь с противником. X. Симамура был вынужден отходить. Одновременно «Адмирал Ушаков» поворотами сбивал японцам пристрелку, но это ухудшало и условия собственной стрельбы.
По воспоминаниям Н. А. Дитлова, указания расстояния для стрельбы почему-то не достигали 120-мм батареи, и мичман стрелял на глаз, до максимального угла возвышения. Постоянные недолеты снарядов вынуждали батарею временами прекращать стрельбу. После первых четырех выстрелов вышло из строя гидравлическое наведение носовой башни. Лейтенант Д. Д. Тыртов был вынужден перейти на ручное управление, огонь «Ушакова» ослабел. Первый крупный (203-мм) снаряд попал в броненосец не ранее чем через 10 мин после начала боя. Он ударил в борт против носовой башни и сделал большую пробоину у ватерлинии. Вскоре попаданием 152-мм снаряда в батарею вывело из строя правое носовое 120-мм орудие, а другой такой же снаряд (или два) вызвал возгорание и взрыв трех беседок со 120-мм патронами. В батарее начался пожар, загорелись обшивка борта и рундуки в жилой палубе. П. В. Бодянский и его помощники не успевали перевязывать раненых.
Через 20 мин боя крен броненосца на правый борт стал ощутимо затруднять вращение башен, еще через 10 мин огонь из них пришлось прекратить, и только последнняя 120-мм пушка продолжала стрелять под управлением мичмана И. А. Дитлова*. [* Из воспоминаний П. В. Полянского// Новое время. 1905 г. 30 авг.]
Командир В. Н. Миклуха, считая возможности сопротивления исчерпанными, приказал потопить корабль, а команде спасаться. Для ускорения гибели трюмный механик Л. Ф. Джелепов с хозяином трюмных отсеков Багаутдином Шагигалеевым затопил патронные и бомбовые погреба. Вода хлынула в машинное отделение через открытые кингстоны и подорванные циркуляционные насосы. Броненосец остановился и быстро кренился на правый борт. Противник не прекращал огня. Вспомнив гибель «Александра III» и обозлившись, вышедший было на ют мичман И. А. Дитлов с комендорами Максимом Алексеевым и Матвеем Шишкиным бросился к 120-мм пушке и выстрелил.
В. Н. Миклуха, Н. Н. Дмитриев и Е. А. Максимов до последней минуты были на мостике. Чудом остались в живых дальномерные офицеры: когда они спускались с мостика, разрывом снаряда были разбиты оба дальномера и убит сигнальщик Д. Плаксин. Одновременно 203-мм снаряд разворотил кают-компанию. Для спасения команды удалось спустить продырявленный полубарказ. плававший килем вверх, и спасательный круг, за который держались несколько десятков человек. Матросы и офицеры бросались в воду со спасательными поясами и койками, корабль вскоре опустел.
На мостик поднялся невозмутимый старший офицер А. А. Мусатов, в кителе, портупее и с револьвером на боку, он сдержанно доложил командиру: «Броненосец скоро утонет». Оставшиеся на мостике могли подумать о своем спасении. Н. Н. Дмитриев прыгнул в воду с кормы, а В. Н. Миклуха — с мостика, когда корабль уже переворачивался. Мусатову спастись не довелось, его придавило сорвавшимся с ростров барказом. Навечно остался на корабле и старший минер Б. К. Жданов. Он несколько раз ходил в батарею, выносил оттуда и бросал плававшим вокруг людям деревянные обломки. Офицеры корабля были уверены, что Борис Константинович разделил судьбу гибнущего броненосца по своей воле...
«Адмирал Ушаков», погружаясь носом в воду, лег на правый борт и перевернулся. Ушел в воду Андреевский флаг, который уже больше некому было охранять: квартимейстер В. Прокопович погиб на своем посту. Через три минуты днище корабля кормой вперед ушло в воду. Перед погружением в корпусе раздался взрыв: видимо, это взорвались котлы. Пока таран броненосца не скрылся под водой, ожесточившиеся японцы продолжали огонь, вымещая на людях злобу за несостоявшийся трофей. Среди плававших в воде разрывами были убиты десятки русских моряков. Более 20 человек, в том числе комиссар П. А. Михеев, погибли от попадания снаряда в центр спасательного круга.
Артиллеристы контр-адмирала X. Симамуры в этом бою не могли похвастаться особой меткостью: за 30 мин, стреляя по тихоходной и маломаневренной цели, они добились не более 4—5 прямых попаданий, из них два 203-мм снарядами. Оба крейсера выпустили 89 203-мм и 278 152-мм снарядов*, следовательно общий процент попаданий составил не более 1,1 —1,4 (для 203-мм орудий 2,3 %). [* Campbell. Op. cit. P, 102]
«Адмирал Ушаков» произвел около 30 выстрелов из 254-мм и до 60 выстрелов из 120-мм орудий. По донесению Е. А. Максимова, на корабле еще оставалось около 70 снарядов главного калибра и около 190 120-мм патронов*. [* РГАВМФ. Ф. 417. Оп. I. Д. 3595, Л. 125 об.]
Не все моряки броненосца, попавшие в воду, были спасены. Скончался от раны доблестный командир Владимир Николаевич Миклуха. От переохлаждения в воде температурой 11,5° умерли инженер-механик поручик Н. Е. Трубицын, прапорщик по морской части Э. Н. Зорич, кондукторы Марулович, Звягин и Федоров. Оказавшихся в беспомощном состоянии поддерживали товарищи. Матросы помогали мичману Н. А. Дитлову, лейтенант Н. Н. Дмитриев уговорил раненого старшего боцмана И. А. Драницына не бросать спасательный пояс. Позднее самого лейтенанта и боцмана Григория Митрюкова японцы выловили из воды по подсказке матроса 1-й статьи Ника-нора Петрухина.
«Ивате» и «Якумо», прекратив огонь, подошли к месту гибели броненосца и спустили шлюпки, оказывая запоздавшую милость своим недавним противникам. Спасение продолжалось до темноты, и крейсера освещали поверхность моря прожекторами. Последних двух моряков подобрали из воды почти в 20 ч 30 мин. Не удивительно, что старший судовой механик капитан Ф. А. Яковлев и кочегар 1-й статьи А. С. Хлынов умерли на «Ивате» от переохлаждения через несколько минут после подъема на борт. Всего «Ивате» подобрал 182, а «Якумо» 146 человек. Из команды броненосца погибли семь офицеров, три кондуктора и 84 унтер-офицера и матроса*. [* РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 406. Л. 8; Дмитриев Н. Н. Указ- соч. С. 82—84.]
По японским данным, последний бой броненосца «Адмирал Ушаков» произошел в 60 милях к западу от острова Оки. Корабль скрылся под водой около 10 ч 50 мин 15 мая 1905 г. В донесении Е. А. Максимова указаны и координаты гибели: 37°00' с. ш., 33°30' в. д. Противник броненосца — японский крейсер «Ивате» прослужил еще более 40 лет. 28 июля 1945 г. состоявший к этому времени в классе судов береговой обороны 1-го класса корабль был потоплен американской палубной авиацией неподалеку от Куре.
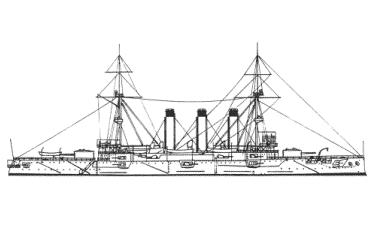 Крейсер 1 ранга Ивате. Водоизм.-10200т. Скорость хода-20 узлов.
Крейсер 1 ранга Ивате. Водоизм.-10200т. Скорость хода-20 узлов.
АГК-2х2 203 мм, 14х1 152 мм.



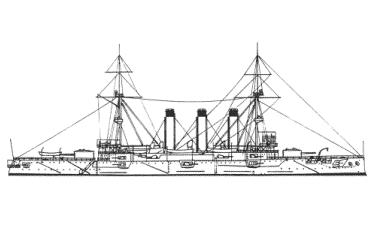 Крейсер 1 ранга Ивате. Водоизм.-10200т. Скорость хода-20 узлов.
Крейсер 1 ранга Ивате. Водоизм.-10200т. Скорость хода-20 узлов.




Комментарии
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Большинство из них вскоре вернулось в Россию.
Чего не скажешь о второй мировой войне.
Это всё такое дело-как посмотреть короче.