Памяти Александра Блока
Памяти Александра Блока (28 ноября 1880-7 августа 1921)

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,-
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
Блок вошел в историю русской и мировой литературы, в первую очередь, как тончайший лирик, при этом с чрезвычайно сильным чувством формы. Стихи последней трети своей жизни он как в граните высекал! Его произведения обладают исключительной силой внушения, многие исследователи называют его творчество «словесной живописью», мощной и емкой, в которой воссозданы и нежность лирических озарений, и драматический накал страстей.
Когда Блок написал «Двенадцать», его упрекали в том, что он «продался большевикам», бывшие друзья-поэты не подавали ему руки. В довершение всего, в его квартиру на Офицерской улице подселили революционного матроса, который по ночам горланил, водил девок и играл на гармошке.
Зинаида Гиппиус, узнав об этом, заметила: «Блок страдает, к нему подселили одного матроса... жалко, надо бы двенадцать...»
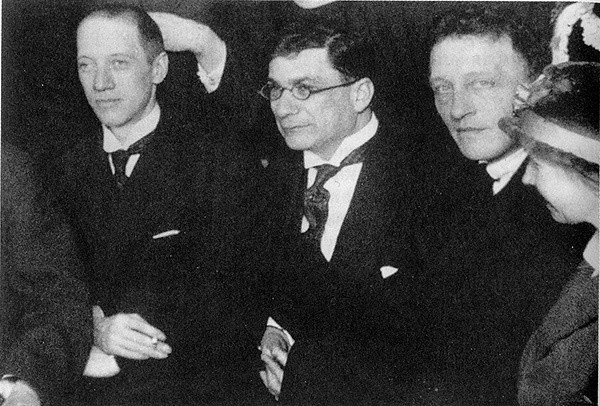
Слева направо Николай Гумилев, Зиновий Гржебин и Александр Блок в Петрограде. 30 марта 1919
Октябрь 1919 года. Петроград. Голод. На квартире у издателя Алянского состоялась вечеринка, на которой присутствовали Пяст, Зоргенфрей, Блок, Белый, Иванов-Разумник, Ольга Глебова-Судейкина и еще несколько человек. Алянский собственноручно состряпал громадный форшмак из лиловой мерзлой картошки и размоченной в воде воблы. Мяса, конечно, не было. Алянский выставил три бутылки аптечного спирта, и получился славный вечер.
Около «буржуйки» читались стихи, произносились речи, потом пошли несвязные разговоры. Спирт был выпит весь, и почти все остались ночевать у Алянского, расположившись кто где мог: на стульях, на полу, на диване и т.п.
Рано утром в квартире раздался громкий стук, который разбудил Алянского, спавшего у входной двери. Не открыть на такой стук было невозможно. Вошел какой-то комиссар в кожанке и несколько милиционеров. Комиссар бросил портфель на стол и начал чем-то звенеть, бренчать и греметь. Милиционеры топтались у входа. Алянский попросил:
«Не шумите, товарищи. Там спит Александр Блок».
На комиссара это не произвело вначале никакого впечатления:
«Деталь! Который Блок, настоящий?»
Алянский подтвердил:
«Стопроцентный!»
Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:
«Этот?»
Алянский кивнул головой.
Комиссар осторожно взял со стола свой портфель, шепнул Алянскому с улыбкой «хрен с вами!» и вышел на цыпочках, уводя с собой милиционеров.
Летом 1920 года Блок редактировал в БДТ постановку «Короля Лира». В пьесе хотели выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера, но Блок был за то, чтобы глаза вырывать:
«Наше время — тот же самый XVI век. То же самое, что и каждый день... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи».
Зимой 1921 Блок сидит возле натопленной печи, все-таки зябнет, и медленно и раздельно говорит:
«Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс».
История Корнея Чуковского к одной из последних блоковских фотографий.
«В 1921 году в одном из ленинградских театров был устроен его торжественный вечер. Публики набилось несметное множество. Мне было поручено сказать краткое слово о нем. Я же был расстроен, утомлен, нездоров, и моя речь провалилась. Я говорил и при каждом слове мучительно чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал во тьму, за кулисы.
Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного.
Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного.
Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась.
— Вы сегодня говорили нехорошо, — сказал он, — очень слабо, невнятно... совсем не то, что прочли мне вчера. Потом помолчал и прибавил:
— Любе тоже не понравилось. И маме...»
В конце жизни, несмотря на тяжелое самочувствие, Блок был еще способен к шуткам. Однажды его спросили:
«А как вы почувствовали славу?»
Он ответил:
«Развратился и перестал подходить к телефону».
izbrannoe.com
Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,-
Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушенным садом,
И небо — книгу между книг;
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis* Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.
_________________
*В полную меру (лат.)

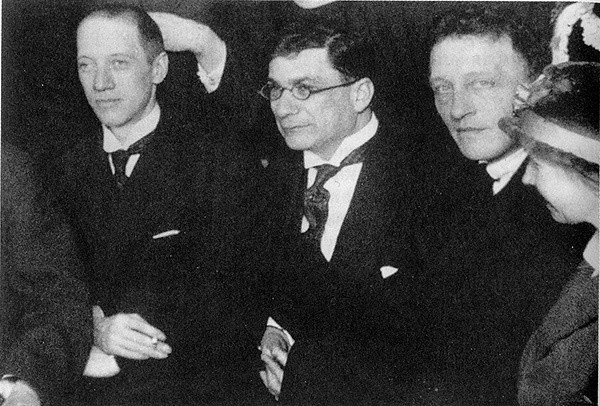





Комментарии